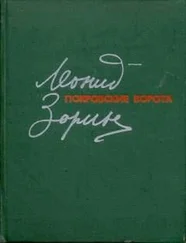После лекции она протолкнулась к нему, вручила два чахлых цветка и, изумленно разглядывая его, проговорила:
– Ой, господи, и где вы всего этого набрались… с ума сойти…
Он снова отметил про себя “г” фрикативное, но на сей раз оно только позабавило.
Она спросила, может ли она его проводить, он развел руками:
– Все-таки я не так стар, чтобы девушки меня провожали.
Это было уже что-то вроде подтверждения, что радиосигнал принят, начиналась какая-то неосознанная игра, кокетство ответа было слишком очевидно.
Но она настояла на своем, шла с ним по темным мокрым улицам, он расспрашивал ее и узнавал шаг за шагом всю ее нехитрую биографию – детство в военной семье, частые переезды, смерть отца, теперь она здесь, работает старшей пионервожатой в интернате, обязательно получит диплом, но останавливаться на этом не хочет.
– Естественно, – сказал он, – вы еще так молоды.
Оказалось, однако, что она старше, чем он думал. Он был этим удивлен и подумал, что все ее проявления уже неадекватны ее летам.
У его парадного они остановились, и он сказал:
– Ну что ж, теперь вы знаете, где я живу. Заходите при случае.
Эти слова можно было воспринять как обычную формулу, вежливое прощание, но она была не такова, чтобы обмениваться этикетками, столь облегчающими общение, и радостно воскликнула:
– Ой, правда? Я обязательно зайду!
И в самом деле – через несколько дней пришла. Наивно принаряженная, причесанная; он угостил ее ликером с печеньем, она отпила глоток, а есть не стала, он не знал, о чем говорить, поэтому старался говорить о ней, но ей уже почти ни о чем не оставалось рассказывать, разве что о подругах, их немного, об интернате, в который ее направили, о сослуживцах, и вдруг – совсем неожиданно – сообщила, что была замужем ровно два месяца, они были дети, им рано было иметь семью. А потом? Потом были еще две встречи, но оба раза оказались, в общем, совсем не те люди, каких хотелось бы встретить. А вообще – одной лучше, она любит быть одна, хотя это не всегда удается, живет у бабки, а ту хлебом не корми, только дай ей поговорить.
Он показывал ей книги, в самом деле редкие, особенно гордился он раритетами, относившимися к его любимому восемнадцатому веку – среди них были комплекты “Утреннего света”, “Вечерней Зари”, “Покоящегося трудолюбца”, а также книга князя Щербатова “О повреждении нравов в России”. Она восхищалась, замирала, вскрикивала, а когда он что-либо объяснял ей, только вздыхала, и глаза ее излучали поклонение.
Ушла, выпросив сочинения Екатерины, и он не отказал ей, хотя в этом умел отказывать, научился, расстаться с книгой хоть на день было для него непереносимым испытанием.
Так она стала захаживать, и эти визиты проходили словно по принятому ими обоими сценарию – скромное угощение, неспешный разговор, скорее, впрочем, его монолог, во время которого она пялила на него свои каштановые глазки, потом уходила, забрав с собой какой-нибудь томик.
Он мало-помалу привык к этим выступлениям перед “немногочисленной, но столь благодарной аудиторией” – так однажды он пошутил и сам себе объяснил их как своеобразный тренинг, зарядка ритора, необходимая гимнастика интеллекта, – во всяком случае, говорил он с удовольствием. А она ахала и покачивала головой.
В одно из таких посещений она предложила приготовить ему ужин, он похвалил, и надо было видеть, как она была счастлива.
– Я стряпаю хорошо, – сказала она сияя, – все признают.
Он не был гастрономом, да и одинокая жизнь приучила к неприхотливости, тем большее признание вызвало у него ее искусство, потом они не раз и не два “закатывали пиры”.
Бывало, он сидел за столом, разбирая записи, а из кухоньки доносилось негромкое пение, там она месила, жарила, пекла. Он усмехался про себя: идиллическая картинка.
Однажды ближе к лету она вдруг заскочила днем, он куда-то спешил, извинился, что не сможет принять, она быстро согласно закивала головой: что вы, что вы, конечно… И вдруг всплеснула руками и шумно вздохнула:
– Ох, у вас очень запущено!
– Почему ж, – возразил он, – я поддерживаю порядок.
– Нет, – сказала она, – я по вечерам не замечала, а вот пришла к вам днем, и сразу видно, эта женщина, которая к вам ходит, – халтурщица, зря деньги берет, это не работа, а фигли-мигли.
“Фигли-мигли” означали самую беспощадную оценку, и относились они к различным сторонам человеческой деятельности – от плохой уборки до не угодивших ей книг. Впрочем, чувства и проявления, которые казались ей нестоящими, тоже характеризовались этим понятием.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу