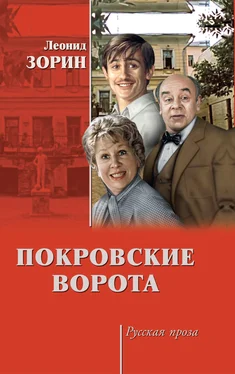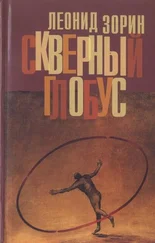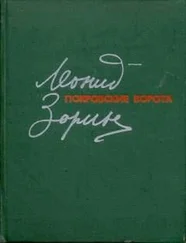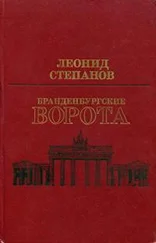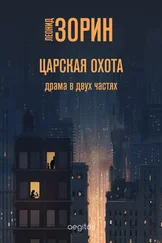Сам я этого месяца не знал. Моя связь с будущей женой длилась больше года. Мы встречались урывками – то у меня, то у нее, то у общих знакомых, каждый раз в нашем распоряжении было не больше двух-трех часов, мы познали друг друга, но не успели сродниться, и к дню свадьбы мы были малознакомыми людьми, для которых друг в друге уже все было знакомо. Наши тела не представляли для нас никакой тайны, ничего не скрывали, ничего не сулили, они давно перестали быть территориями, которые нужно было исходить и освоить, зато душевная наша жизнь была и для нее и для меня книгой за семью печатями, и впоследствии я не раз удивлялся: как, в сущности, плохо понимали мы друг друга!
И от самой свадьбы осталось странное и смутное воспоминание. Какие-то натянутые шутки, неестественное оживление, и сама Лена, не находящая себе места. Секунды не могла она посидеть спокойно, и я часто вспоминал, как она металась из угла в угол с застывшей на губах улыбкой, с ненужными словами, порой весьма патетическими, к чему она обычно не была склонна. Как это всегда бывает, за столом оказался человек, почти случайно попавший на это торжественное событие, – Лена не обошла и его. Раскрасневшаяся, взволнованная, она долго и сбивчиво уверяла случайного гостя в своей глубокой симпатии, чем привела его в немалое смущение. И добро бы в этом сквозило желание ободрить малознакомого человека. В словах ее, в жестах, в громком смехе была все та же непонятная нервная суетливость, подсознательная боязнь паузы, и это понимал я, и наши друзья, и даже этот случайный гость.
Потом она исчезла в ванной, и ее подруга сказала мне, что ей плохо. Я поспешил туда и застал ее смятую, заплаканную, с жалкой бессмысленной улыбкой на губах.
– Что с тобой? – спросил я, целуя ее руки. – Тебе худо?
Она посмотрела на меня, слезы катились из ее глаз. Я не знал, что нужно делать, должно быть, у меня было очень глупое и растерянное лицо, потому что она неожиданно улыбнулась.
– Чепуха, – сказала она, – очень жарко. И эти цветы… У меня дико разболелась голова.
Она обхватила мою голову руками и вдруг начала целовать так исступленно, так жарко, как не целовала в часы свиданий.
– Ничего… – шептала она чуть слышно, – ничего… чепуха… пройдет…
Много лет, когда я вспоминал этот день, я так и не мог понять этот внезапный порыв, эту поразившую меня стихию нежности. Теперь, кажется, я понял. А тогда я был просто растроган и удивлен и истолковал эту горячность в самом выгодном для себя смысле. И слезы ее я тоже объяснил естественным волнением перед новой жизнью.
– Иди к гостям, – сказала Лена. – Неудобно.
Она уже стояла перед зеркалом и пудрилась. Спустя минуту она вошла в комнату все с той же механической улыбкой на губах, и в ответ ей запорхали такие же улыбки и пустые, ничем не наполненные слова – жалобы на погоду, на духоту и прочие обстоятельства. И снова установилось это неестественное оживление, и опять мы что-то представляли, и – боже мой! – как мы привыкаем к нашему повседневному актерству, сколько не своих слов, не своих движений, сколько проверенных приспособлений для того, чтобы не выдать истинное свое состояние. Не может быть, чтобы эти усилия не быть собой, эти общие слова, поведение, приличествующее обстановке, весь этот набор неписаных правил, защитных фраз и фразочек, – не может быть, чтобы все это сходило нам с рук. Ничто не проходит даром, и, должно быть, под конец жизни мы уже не знаем, что в нас свое, а что приобретенное, где маска, а где душа.
Но, видимо, я уже начал стареть, потому что, вспомнив тот далекий душный день, я пожалел Лену, прежде чем пожалел себя, что я обычно делал охотно. И тогда я подумал, что жалость, быть может, и есть та тропинка, которая способна вывести на путь к утраченному естеству. Злым ведь я от рождения не был, злости мне как раз всегда не хватало, и с детства я слышал, что нужно быть более зубастым молодцом.
Я пообедал в ресторане при гостинице и поднялся к себе в номер. Долгое время я просидел у окна, бессмысленно наблюдая за соседним тротуаром. Постепенно стемнело, и город начал обретать обманчиво таинственные очертания. Снизу из ресторана доносилась музыка. Была суббота, и наиболее бесшабашные прожигатели жизни уже собрались за столиками в предчувствии кутежа. Вечер был теплым, как день, запах моря влетал сквозь распахнутое окно в мою темную каюту. Я зажег ночник, лег в постель и начал читать рукопись Ивана Мартыновича.
«Приблизительно к сорока пяти годам стало очевидно, что жизнь удалась. Он был крепок, относительно здоров, обладал достаточно привлекательной внешностью, а его лекции пользовались популярностью и в учебном заведении, в котором он преподавал, и тогда, когда он выступал с ними в различных просветительных учреждениях. Эти лекции, собственно говоря, и сделали ему имя. Надо признать, его речь была заряжена энергией (экспрессией, как говорил один его приятель), она была напориста, активна, одновременно доверительна и потому не оставляла аудиторию равнодушной. По-видимому, у него был счастливый дар – интимное отношение к своему предмету. Люди, отделенные годами, поколениями, столетиями, неизменно выглядели его близкими знакомыми, то однодумцами, то оппонентами; казалось, он поддерживал с ними тесные личные связи, и это сообщало его словам особую, странно тревожившую слушателей ноту. Согласимся, что историком он был по призванию, и, право, это соответствовало действительности, – еще мальчишкой, пятиклассником, он знал, что история станет его делом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу