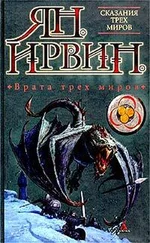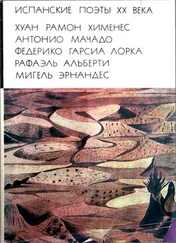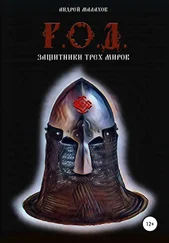Обманутая
Мать посулила девочке апельсин, если сделает то-то и то-то. Девочка исполнила все с радостным рвением. После чего мать с бесстыдным смехом съела апельсин.
Девочка, подобрав кожуру, стала неподвижно глядеть в окно.
Какое-то незнакомое слово рождалось и застревало в горле. И ее глаза, словно они уже все перевидали, за секунду прожив жизнь, устало глядели, налитые свинцом, угасшие, мертвые, как у старухи.
Мертвая девочка
Чуточку солнца еще оставалось на кладбище, когда тебя вносили. Загорелся цветок, птицы ловили последнее тепло, свет забирался все выше по стволам акаций, а следом перебирались птицы, пока, наконец, все не слилось в одну певучую золотую крону. Твой белый гроб уже заголубел в сырых сумерках, и дорога, для тебя безвозвратная, для меня беспросветная, дохнула холодом. И дети, толкавшиеся вокруг гроба, оцепенело вглядывались в тебя на пороге твоей новой спальни… Сын могильщика безучастно ел булку.
* * *
Девочка умерла под вечер. На другой день в детской, уже лишенной погребальной торжественности, остальные сестры гомонили посреди сломанных кукол, лоскутков, мячиков и спиц. Порой они забывались в болтовне. Порой застывали хмурые, не понимая, почему плачут… И вдруг — Лола: «А мне Пепа подарила, чего у вас нет. Видите, крестик. Ни за что не потеряю…»
Виктория: «А у меня зато, чего ни у кого нет. Она меня за руку укусила — видите, след остался. До крови укусила…»
Лола (глаза, как кулаки): «Да пусть бы она мне всю руку искусала!»
* * *
Этой ночью в детской спальне одно место пустует. Не потому, что там сидит мать и некому ее увести. Нет, просто не хватает одной кроватки.
Сестры, бело-розовые от избытка жизни и золотистые от тепла печки, укладываясь на ночь, спрашивают, глядя широко открытыми, грустно догадливыми глазами:
— А она, где она будет сегодня спать?
— В раю, — отвечаю я, кусая губы.
Господи, как холодно этой ночью в раю!
* * *
Две вещи, Господи, мешают мне верить в тебя. Рождение монстра и смерть ребенка. Взрослый может бороться, своим сознанием, памятью, тоской. Больной ребенок — это боль, боль, одна только боль, бескрайняя белая рана.
Сын
Я прятался, а ты искала меня, искала.
Наконец, устав от поисков, ты сердилась и говорила: «Выходи сейчас же, это уже не игра!»
И уходила. А я выглядывал из моего укрытия, смеясь.
Сейчас укрылась ты — так надежно! — и я не нахожу тебя.
Я ищу и ищу и, чувствуя близость ночи, в тоске повторяю: «Мама, выходи, это уже не игра!»
Я ухожу один. А ты — ты выглянешь, улыбаясь, из укрытия?
ПОЭЗИЯ ПО-ИСПАНСКИ
1
Санчо Смелый из «Книги возмездий» (1292)
«Заживают раны, но не обиды».
Некий человек держал у себя льва, коего вырастил с детства, но однажды, воспылав к нему злобой, взял меч и рассек ему голову, и сопроводил содеянное бранью: «Зверь лютый, чуешь, тварь ядовитая, сколь зловонен дух, тобой испускаемый…»
Такого не должно быть, ибо рана заживет, обида — никогда.
Посему, сын мой, слова, кои говоришь, обдумывай до того, как скажешь…
2
Песня
Не летай, моя голубка,
по охотничьему полю.
Я без промаха стреляю,
а расплачиваюсь болью.
(Слова, с вашего позволения, народные.)
3
В темном закоулке
горлинку убили.
Я цветок оставлю
на ее могиле.
(Слова, с вашего позволения, народные.)
* * *
Прошлое и тогда прошлое, когда не прошло.
* * *
От Шербура до Нью-Йорка (пять бесконечных серых дней) гнетуще одинаковое море. (Прежде оно не было одинаковым.) Плотная полированная выпуклость ртути. Лишь иногда ртуть отсвечивает розовыми, бирюзовыми, амарантовыми оттенками, становится радужной или вороненой, но по-прежнему безнадежна.
Я не видел моря. Весь я, душой и телом, был на моей обезумевшей земле.
* * *
Двадцать лет назад у Нью-Йорка еще были душа и тело. Теперь это машина. Машина в движении. Куда — вдаль? внутрь?
Нью-Йорк автоматически разрушает сам себя. Это образцовый — и неизбежный — ход регрессивного прогресса или вернее — прогрессивного регресса.
* * *
Прибыв в Нью-Йорк (сентябрь, сырое утро, серое солнце), из мятежного испанского ада в райскую твердыню свободы и богатства, я обнаружил, что те обещанные оазисы жизненной силы, что в 1916-м, казалось, уже угадывались, окончательно затерялись в огромном кубистическом кладбище живых, где старые кладбища мертвых кажутся островками жизни, сберегшими ее смысл и красоту. Мертвые еще живы, а живые замурованы, загнаны, втиснуты в геометрию грязного камня, холод гнутого железа, скудость искусственной зелени.
Читать дальше