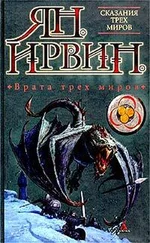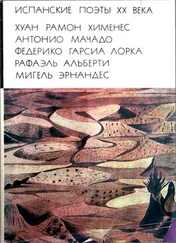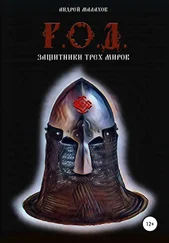Донья Луиса встает бледная, трагическая, величественная, закатив глаза, глотая воздух и слабо покачиваясь, как надутый шар, готовый взлететь, оборвав постромки, из ее тропического халатика с короткими рукавами и глубоким вырезом, позволяющим видеть ее пышное и матовое, хорошо ухоженное сорокалетие, набухшее грозой. Шатаясь, она плывет на крыльях и волнах ярости в переднюю, распахивает двери, скрежеща залетным камнем, и на пороге в апокалиптическом экстазе перед потешно визгливым выхлопом сахарного голоса вздымает толстые руки в жуткий кобальт небес, к общему изумлению детворы, впрочем, недолгому и глумливому. И, задыхаясь, кричит: «Ирод! Где ты, Ирод?»
Поймал
Неуемный Хуанито, трехлетний почемучка, кареглазый и бледненький, изводит мать тысячными вопросами.
— Мама, а Бог — он где?
— До чего же ты надоел! Сколько раз тебе говорила — Бог везде, во всем!
— Это теперь. А раньше? До всего?
— Я же сказала, отстань. Он везде, сам знаешь.
— Так он и здесь, и здесь, и здесь? — и показывает пальцем на завитки перил, на плафон безоблачного неба, на закраину колодца, на клетку с канарейкой.
— Ну да, сынок, да.
— И в чашке тоже?
— Да, да, отстань.
Хуанито внезапно хватает чашку: «Я поймал его!»
Леонтина и Отец Небесный
Отец Небесный восседал на черной туче и правил грозой, держа путь в Испанию. Он придирчиво перебирал свои несметные пиротехнические запасы и намеревался употребить молнии времен сотворения мира. Но подвела вековечная старость, он поскользнулся на туче и свалился на сеговийское нагорье.
Лишенная поводыря, гроза не знала, что делать, и, с грохотом расколовшись на куски, пыталась собрать обломки. Тучи и горы замерли, похожие друг на друга. И то здесь, то там, просачиваясь из трещин, сквозило зеленое солнце, промокшее насквозь.
Леонтина, моя американская племянница, четырнадцати лет, соломенная и бледно-розовая, шла продрогшая по горному лугу, собирая осенние безвременники. Краем глаза она увидела кульбит Отца Небесного и, словно подброшенная пружиной, прянула к нему. Она вспомнила, что уже видела его в моих книгах, точно такого, с треугольной головой, желтой бородой и выпученным глазом, в белом балахоне с синей оторочкой. Земной шар, выпавший из рук, валялся рядом.
Леонтина не верит ни во что небесное, но ценит все таинственное. Она приблизила к Отцу бледное личико и сказала, скорее мысленно: «Poor God the Father!» [15] Бедный Бог-Отец! ( англ. ).
Потом вернула ему шар, огляделась и, подкараулив лиловую тучу в бреющем полете, слегка подпихнула старика и водрузила куда следует.
Она смотрела, как он возносился. Улыбнулась параллельными щелками глаз и губ и, покрутив пальцем у виска, послала воздушный поцелуй. И вприпрыжку, потряхивая соломой волос, вернулась к забрызганным безвременникам.
* * *
— Я так хочу. Я не хочу становиться другой, хочу быть такой, как сейчас, в мои семнадцать, всегда и везде, куда бы ни занесло.
— Понятно, почему здесь тебя считают сумасбродкой, одни больше, другие меньше.
— Я в своем уме. Я лажу со всеми и в каждом нахожу то, что мне по душе. А что не по душе, то и бог с ним. В каждом найдется лучшее для меня. Потому я и лажу со всеми. А вот они, как вы сказали, одни больше, другие меньше, видят во мне лишь то, чего не понимают или что им не по душе. Говорят, буду век вековать одна. Не понимаю, почему. Разве я нелюдимка? Меня тянет к людям, даже самым диковинным. Вы уж наверно наслушались про дона Мопса. Он нездешний, пришел неведомо откуда и живет один. Живет кое-как, но никогда не крал, не побирался. Была у него собачонка и вечно на всех лаяла. Однажды она пропала, и с тех пор он говорит, будто лает. Люди шутят: «Стережет еду, а собакой обернулся, чтобы меньше есть». В нем и раньше было что-то собачье, в разговоре, в повадках. На всех рычал и не подпускал к себе. А сейчас и вовсе забился в свой угол и вправду похож на пса. Говорят, что пес его проглотил в отместку. Но на меня он не лает. Позволяет заходить к нему. И мне он нравится, а чем — не знаю, что-то в нем есть такое, что-то давнее-давнее, о чем он не может забыть. По правде говоря, мне с ним хорошо как ни с кем.
— Вот и прекрасно.
— Ну, я вам сказала больше, чем хотела. Позвольте уйти. Не люблю, когда удерживают. Хочется жить без удержу, как ручей. Жить по-своему. А надо мной смеются и если не смеются, то бранят или бросают одну. А я не хочу быть одна, меня тянет к людям. Я же говорила, что в каждом мне что-нибудь да нравится.
Читать дальше