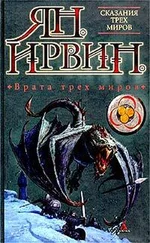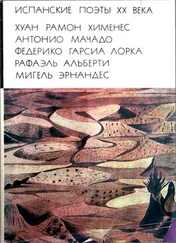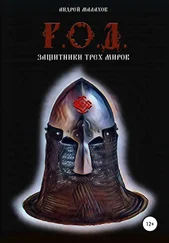Жуток и жгуч, и горек одинокий испанский тополь!
О ДЕТЯХ
Пустырь
(Мадрид)
Ребенок сидит — как долго? — на мокром песке, дожидаясь кого-то, кто бросил его без присмотра. Быть может, женщину в белой шали с темными квадратами, ту, что маячит поодаль под руку с жандармом? На захламленном пустыре, поскольку женщина и жандарм уже скрылись, остались лишь маленький ребенок и большая луна, мутная и зябкая — октябрь, — сверлящая сумерки над башней Гиндалеры.
На миг непоседливый взгляд ребенка тянется туда, где проклюнулась луна — «лунный птенчик, мой бубенчик», — и тянутся следом ручонки, насколько могут. Потом усталость одолевает, и он разглядывает запоздалого муравья, вслушивается в гулкие стоны рожка, разбередившие сумрак, или развлекается, пальцем заставляя струйку из лужицы, как из испорченного крана, течь под себя.
Принимается плакать, но тоже устает и забывает, и снова, запрокинув голову, не сводя глаз, в безудержном и безнадежном усилии тянет ручонки к луне, уже отчетливой, ночной, все погрузившей в полное одиночество.
Жизнь
Дети спали. Я осторожно пересек спальню, узкую и длинную, со множеством окон, похожую на утренний поезд, поочередно вглядываясь в румяные, улыбчивые, безмятежные лица.
Вдруг большие глаза, гипнотические и безучастные, блеснули навстречу, как горячие угли. Мальчик лежал, как и все, неподвижно, но не спал.
Немые распахнутые глаза, одинокие среди стольких сомкнутых! Открытые задолго до того, как я увидел их, открытые ни от чего, для самих себя, в беззвучном сне наяву, наверняка открытые и по моем уходе, и потом, и бог весть доколе.
Единственный пробужденный в ряду спящих, он не выглядел единственно живым в этом поезде, сонно въезжающем в жизнь. Нет, это глядела одинокая и неотступная смерть.
Побирушка
Зима, и Мерседес Capo краем платка, четвертушки, отрезанной от женской шали, кутает рот. Прелестная девчушка. Маленькая головка, гладко причесанная (заботливой рукой — чьей?), и тугой хвостик косички с белым бантиком на конце напоминают мне луну с неразлучной звездой (что в свою очередь напоминает ночного воздушного змея с фонариком на хвосте. Как завораживает все крохотное!)
Она уже привыкла ко мне, и ее бесхитростные глаза, грустно оживляясь, улыбаются мне издали. Вместо денег, которые перекочуют в набитый окурками карман того типа, что маячит на углу, я веду ее в булочную или кондитерскую и покупаю, что захочет, и она прогуливается со мной, болтая о том и о сем, пока все не съест.
Похоже, со мной она чувствует себя в безопасности. Несомненно, тип на углу, ее отец, смутно представляется ей человеком могущественным (Равашолем, Потрошителем, Черной Рукой, кем-то загадочным и страшным, заправилой в опасных сумерках крысиного предместья с их побоищами и грабежами и всем остальным, о чем она то и дело слышит и чего не может ни вместить, ни понять). И если фигура приближается, девочка, цепляясь за мой плащ, шепчет: «Сударь, берегитесь, тут мой отец, а он не любит, когда я ем».
Газетчик
Он такой крохотный, что ночью на полутемной улице едва виден. Он выскакивает из-за угла, всегда одного и того же, и сует в руки газету, которая целиком его загораживает.
И гулко заводит — рулон подмышкой, руки в карманах пиджака не по росту: «Курье-е-ер, смерть Гальи-и-то-о-о!»
«Эй! — сердито откликается сестра, чуть постарше, в освещенном окошке ларька. — Чего кричишь? Он уж неделю как умер!»
Прямой и надменный, он оборачивается и: «А то я не знаю, дура! Кричу, чтобы продать».
И удаляется утиной походкой заправского тореро, такой щемяще жалкий, маленький, глядя во тьму, где тает одинокий фонарь (зеленый лимон в медной сетке сухого деревца, приютившего луну), и говорит самому себе: «Учи ученого…»
Цикада
Как нестерпима эта цикада в этом небывалом июне, топком и застойном, как раз над моим открытым окном, немолчная трещотка в самом сердце моего одиночества, в самом центре моего слуха!
Мой сон превратился в нескончаемый кошмар, перемежаемый страхами, в сплошь черное летнее небо, в монотонную тупую дробь свинцовой капели, в раскаленный дождь, асфальтовое море, сгустившееся в один краткий удушливый всплеск, который удар за ударом захлестывал горло. Казалось, весь мир навалился и сдавил барабанные перепонки, а я судорожно — рывок за рывком! — пытался его стряхнуть.
Наконец я не выдержал и сказал сыну привратника, владельцу адского насекомого, что если он продаст мне цикаду, я дам ему дуро, два, десять и сколько захочет, уже мечтая, как отнесу металлическую тварь в городской сад и заброшу в бурьян подальше от себя.
Читать дальше