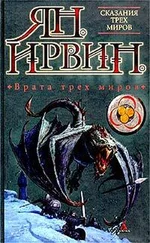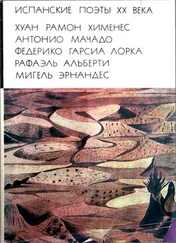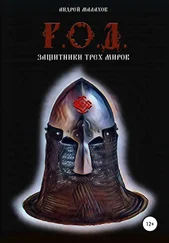У всех на лицах соленые жгучие брызги морского горизонта, для кого-то желанные, для кого-то нестерпимые, радостные или горькие, сулящие покой или тревогу. Но этот неизбежный знак, хотим мы того или не хотим, на мгновение всех нас роднит темной и мизерной никчемностью жизни.
ОТТЕНКИ НОСТАЛЬГИИ
В расцветшей жимолости на стене тихой улицы, где заблудилось, забыв о времени, позднее солнце, наперебой сумасбродят воробьи. Покой. Обитель одиночества. Тайная жизнь тишины.
В доме напротив клерк за клеенчатым столом, над двумя колонками доходов и расходов, смотрит на жимолость и грустит, потому что круглый год видит ее, ту же самую, что пахла в детстве.
Запах жимолости! В мягком вечернем воздухе, пропитанном испарениями — только что поливали — серого асфальта и бурого кирпича. Расцветшие веточки оживают, подрагивая флажками завтрашнего праздника.
В гостинице напротив постоялец над упакованными чемоданами и кроватью, застеленной для кого-то другого, смотрит на жимолость и грустит, потому что круглый год видит не ту, что пахла в детстве.
ОСЕННЯЯ ПОРА
Солнце осеннего предвечерья докрасна раскаляет кирпичную стену, и золотистая зелень кипарисов съеживается, обугленная жаром.
Вверху, вон на той террасе белокурая девочка меня поцеловала. Потом выросла, вышла замуж, родила детей и умерла молодой.
Моя мать вышла из ворот, такая красивая, такая ласковая, поникла, оступилась и ушла под землю.
Врач, мой друг, меня опекавший, сменил черную бороду на белую и умер.
А я, живу еще или мертв?
Какими дивными были здесь осенние вечера, какими яркими, сильными, полными соков и красок. До того красивыми, что щемило сердце.
Потом я встречал их в другом краю, и еще где-то, и еще. И ни разу там, где хотел их видеть. Такие красивые, что щемит сердце.
Там, на перепутье, где сходятся дороги, где все утешатся и все воскреснут.
СКРИПАЧКА
(Бордо)
Старая улица — камень, сырость и плесень — захлестнута ветром, колючим ветром, ощетиненным ножами, готовым растерзать все на свете. Все наглухо закрывается, запирается. И густеет недобрая ночь.
Уже затеплились первые огоньки и мутная луна над рекой — и вдруг в немой тьме нестерпимое, полное мольбы и животной боли рыдание скрипки, явно в хороших руках.
Играла молодая женщина, высокая, тоненькая, как детская косточка, увядшая и все еще красивая, в линялом мятом платье, когда-то бальном, с голыми ключицами и лопатками. В этой сумятице звуков и чувств она казалась призраком иного мира и другого времени, лучшего, если такие бывают. И, держась за ее подол, худая низкорослая девочка, большеглазая и большеголовая, сунув палец в рот, натужно смеялась.
Женщина играла, не знаю, что играла, для кого и как долго; отверженная и голодная (это звучало в музыке); выброшенная жизнью на улицу, она инстинктивно последним усилием удерживала скрипку, спасительную соломинку, единственную неразменную привязанность.
А девочка, видимо, считая все это забавой, смотрела на нее снизу вверх, выставив над голыми коленками свою рожицу. Смотрела и на меня — и смеялась, смеялась, смеялась натужно и напоказ.
ЛЮБИТЕЛЬ
По вечерам он появлялся в отеле «Сомерсет», уединенном и просторном, и когда два старика, к которым он приходил, кончали ужинать, все трое садились в ряд посреди зеленых бархатных портьер, поближе — как можно ближе — к музыкантам.
Он явно приходил ночь за ночью — ох, эти ночи бесконечного снегопада — из селенья, потому что пах землей и деревьями, ветром и дымом. У него было широкое лицо, всегда оживленное и радушное, и во всю ширь голубая душа его глаз. Судя по всему, он мирился с чем угодно, пока не лопнет терпение.
Он явно считал себя знатоком. Заезженные попурри — из «Травиаты», из «Нормы» — сопровождались его блаженной мимикой и порой даже тиком романтического восторга, а по окончании он гулко аплодировал в пустом зале, подходил к музыкантам пожать руки и кстати осведомиться, что они играли.
И так до самого конца. Тогда он щедро и благоговейно благодарил музыкантов и стариков, которые снисходительно рукоплескали в ответ, распахивал дверь навстречу свирепой тьме и исчезал, прямой и спокойный, как дерево с незримой кроной, полной ветра и птиц.
ФИЛИППИНОЧКА
(Могер)
Она почти не выходила, только в церковь да на рынок… Шла неуверенно, словно цепляясь за мостовую, словно вот-вот ее сдует, хрупкую, бесплотную — одни раскосые глаза и серое личико в черном, туго спеленутом коконе.
Читать дальше