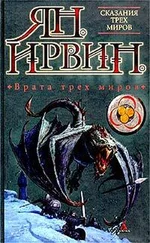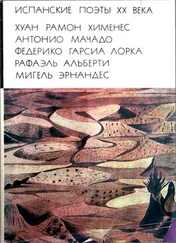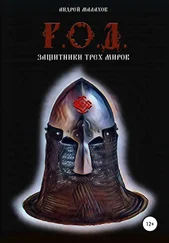Распатланная щербатая старуха вторгается в кипучий день из черствой, седой, изношенной зимы, с лазоревым цветком в руке, что-то бормоча под нос и посмеиваясь. Останавливается, поджав губы, и, грозя пальцем, что-то назидательно выговаривает испуганному муравьенку. Время от времени, почти не глядя, словно отыскивая в забытой душе, она нагибается, срывает еще один синий цветок и прячет его в ветхую суму. (Я уже ничего не вижу, кроме нее.)
Все вокруг лихорадочно становится иным, обретая странную красоту, внушенную безумием. Ветер оплакивает дождем, при ясном солнце, вечную разлуку, увядшие цветы и последние желтые листья. Птицы, вторя мерцающему плеску воды разноголосицей, смутной, как давние, но все еще не остывшие слезы, ищут следы любви и печали на радужных весенних камнях.
ВОСТОЧНЫЙ ПАРК
Не могу расстаться. Медленно возвращаюсь шаткой сбивчивой походкой по желтому склону, унизанному густо-синими тенями, теряя взгляд не моих уже глаз, в пустынном окоеме полудня, который неощутимо смыкается с каждым шагом. Низиной, в зеленой осенней отаве и бледной голубизне непросохших лужиц, бирюзовый ручей катит белые облака в тополиную тень, где сочный воздух особенно вкусен.
Заветная лощинка! А где же птицы? Ни одного нахохленного силуэта. И только небо над холмами в душистой тени сосен прозрачно уходит в бесконечность. Я останавливаюсь снова и снова. Как уйти, как оставить одну эту лучистую красоту? Ведь если ее не вижу я, не видит никто, и не увидит — ручей, деревья, слепое небо (да где же птицы?) — она сама.
СТАДО
Сверху оно казалось бурой тучей, упавшей на жнивье, тронутое прозеленью. Отсюда, в подножье нависшего холма, оно выглядит желтым — от запоздалой сукровицы заката? — и чернеет пастух на белесом и водянистом северном небосклоне.
Ветер. Овцы копошатся, как черви и, стриженые, пятнают охрой голую зелень, встряхивая воображаемую шерсть. И пес, угрюмый и сторожкий, сбивает их всякий раз, как отара рассыпается, в понурую надежную массу под огромной тучей, замершей в зените.
ОСЕННИЕ СУМЕРКИ
Луна и ни одного фонаря, и улица, как тусклая река в черных лесных берегах.
Из кареты в кружеве теней возникают еще тени, не знаю, рожденные сумерками или полотнами Гойи.
Тишина. Колеса скрипят, будто дробят луну. Сонные кони, сонный кучер и я. Одна из теней, женская, что-то неслышно говорит за стеклянной дверцей. Я молча смотрю.
Женщина стоит, распахнув пальто, руки на бедрах. Другая присела на корточки. Две женщины и мужчина у фонарного столба. А у дверной решетки, под раскидистым деревом, еще одна женщина — из-под юбки лунно белеют бедра — кутает плащом и объятием мужчину, который исчезает, растворяясь в ней.
НОЧЬЮ
Черное ландо, рассохшееся и шаткое, высаживает во тьму, в колючий, как осколки звезд, ветер, квадрилью тореро. Их золото стынет и серебро леденеет в гипсовом свете площади с вычурными арками и копьем фонтана, и чудится, что они возникли из морских пучин другой планеты. Позади пикадор на кляче, и его синяя и красная расцветка кажется в кирпичном пыльном свете фонарей живой плотью.
Как дика эта латунная музыка! Стылая, белая, словно музыка кинематографа, в иллюзорном плеске нескончаемых флагов…
Позади квадрильи ни души. И поскольку никого нет, кажется, что они никуда не идут, либо арена так далеко, что они не дойдут никогда. Нет, не спешат они навстречу такой неприглядной смерти. Все черно, как душа ночи. Ни страсти, ни радости, одна угроза.
Я никогда не жалел тореро и желал даже, чтобы замороченный, загнанный бык расквитался с ними. Но этой ночью, глядя на них, таких одиноких, таких безрадостных и таких обреченных, в погребальном серебре и золоте, я увидел в них почти героев.
МАДРИДСКИЙ ПОРТ
Снегопад обращает полдневную пустошь в залив, плоскую пустыню, где желтое солнце высвечивает невиданные земли.
Ни один корабль не заплывает в эту забытую грустную гавань. Мадридские башни и циферблаты задумчиво оттискивают на воде свое время.
Полдень. Полнота одиночества. Отзывчивая тишина. И душа уплывает под мирными парусами и вечером долго бродит по чудесному берегу, доступному отважной фантазии.
ПРИЛИВ
Стоит взглянуть в небо — и ты сразу везде: в море, в горах, в пути или на привале.
По всему горизонту, как над каменным морем, катятся облака, курчавя свои бесформенные горы, опаловую вечернюю гряду, всплывшую в переливчатой зыби скрытого солнца.
В их кольце город — как пересохший колодец, где на дне, на самом дне мы, бедные существа, сведенные вечером, носимся по кругу. Сознательно или бессознательно торопя один и тот же конец.
Читать дальше