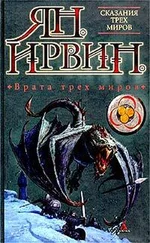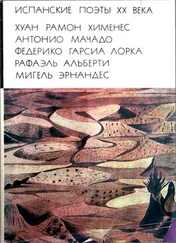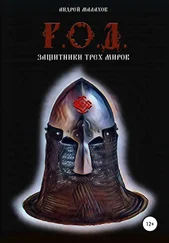Андрес минует одну скамейку, другую, предпоследнюю, нет, идет дальше, к самой крайней, и там, в лиственной нише, укромной зеленой пещере, лицом к закату, как его последний отсвет, трудно и опасливо садится на самый краешек.
«Бедняга, — резюмирует чудаковатая прохожая, — всего-то жить осталось, и то на краешке!»
ВОРОБУШЕК
Я облюбовал скамейку на солнцепеке, пропахшем осенними петуниями, и представил себе, что мостовая в голубых тенях стала рекой. И по реке уплыли мои мысли.
Неожиданно взъерошенный воробушек запрыгал в мою сторону, вглядываясь агатовыми глазками. Я свистнул ему, как собаке, — единственное, что в этот миг пришло в голову, — и воробей приблизился.
Дать было нечего. Я обшарил карманы, зная, что там пусто. Огляделся вокруг, не найдется ли что. Не нашлось. Не слишком рассчитывая, что он поймет, я пообещал: «Подожди, схожу домой, это недалеко, и сейчас вернусь». Но он не понял. И как я ни пытался удержать, он мало-помалу покинул меня, оставив одного в безрадостных сумерках.
КАРНАВАЛ
Напротив моего окна дряхлый паралитик греется на балконе и, припав лицом к стеклу, подремывает под монотонный наигрыш тамбурина и флейты. Играют двое, в черном и красном, на безлюдном пустыре, по которому расползается чахлая зелень. Он открывает глаза. Снова засыпает. От сна до смерти отделяет его лишь малый промежуток скуки.
Я, над упакованными чемоданами, отчужденно смотрю в синее небо, где тонут пестрые отзвуки гулянья. Плывут облака, а где-то под ними бегут поезда и уплывают корабли.
Подо мной, в саду, отдыхает, чужая всему, парочка ряженых — любовь и смерть.
БОГАДЕЛЬНЯ
(Мадрид)
Почти все они здесь, в загоне запертого дворика, вперемежку со своими метлами из дрока, желтыми от такого же желтого осеннего солнца. Пиджаки всех размеров и фасонов, зеленые, рыжие, бурые; шляпы всех видов и возрастов, от зимних котелков до летних брылей; непарные башмаки — немыслимые, неузнаваемые, дышащие на ладан. И во всем этом, под этим, за этим — люди. Почти люди.
Дворик мал и стар, последний в ряду менее старых, где мастерят циновки, альпаргаты, скребки, словом, нечто расхожее. С его северной стороны ржавая решетка в рост человека закрывает пустошь, силуэты поселка и деревца в воробьях. Над высокими прутьями, еще выше, на холме, видны погребальные дроги, по дороге домой.
Старики чешутся, перхают, кашляют, жуют и, ругаясь, вяжут метлы и заняты только этим, да еще клянут весь белый свет и все, что выше. Сколько тягучей старости под замершим солнцем, которое едва различает их своим немигающим оком! Тело, уже готовое к превращениям, не сохранившее даже подобие тела; иссякшая душа, которая мимо воли еле держится в постылом, ненужном теле и кислым испарением неудержимо сочится изо всех его пор и трещин. Остов иссохшей, неприглядной плоти, самое неприглядное на этом свете и, полагаю, на том!
Самые старые безучастно и презрительно провожают глазами дроги. И единственно ждут, что однажды вечером в час еды или перекура самая обшарпанная повозка вместо того, чтобы растаять в облаке пыли, остановится у решетки — и пьяный возница с козел ткнет пальцем: «Ты! Да не ты, другой!»
САБЕНИТА
(Могер)
Детям принесли Сабениту, старую канарейку, полузеленую-полуседую. Целый час они как одержимые возились с ней, обхаживали, наконец, устали и оставили одну. Тогда я подошел к ее вынужденной тюрьме (не выпускать же старую канарейку? что с ней будет?) и развлек на свой лад: «Сабенита, тюить, тюить, тюить!»
И канарейка чуть оживилась и ответила мне дрожью лепестка в сухой траве за проволочной сеткой.
Весь вечер, занимаясь своим, я окликал и развлекал ее, вперемежку со стихами. Слова и посвисты перемежались, а порой сливались безотчетно и одновременно: «Тюить, тюить».
Уже ночь, и Сабенита спрятала свою тоску в бахромчатые останки крыла и задремала, не на жердочке, а на полу клетки. Моя бессонница еще раз окликнула ее: «Тюить, тюить». На почти уже белой головке ожил зеленый глазок, и птица ответила, не в смертном ли сне: «Тю-и-ить…»
ЭКС-ОФЕЛИЯ
(Мадрид)
Слепящее многоцветье молодого луга, голубое, сиреневое, синее в беспрерывном мельтешении, порхании, жужжании дробит глаза, рассыпая черные и красные искры по сизой зелени. Все слилось, перепуталось — глаза, цветы, травы, блики, тени, зелень глаз, глаза цветов, тьма и вспышка. И шальной мартовский ветер словно силится собрать и сплавить в раскаленный слиток вырванное сердце, всю весну, какая есть на белом свете с его морями, лесами и небом.
Читать дальше