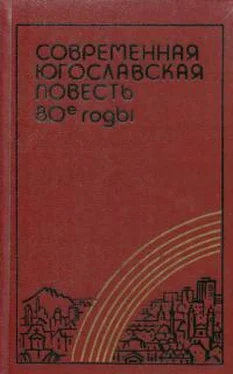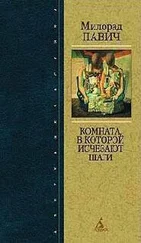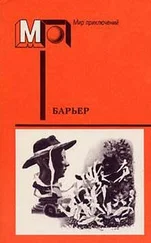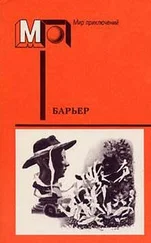Ему удавалось сдерживать раздражение, хотя он чувствовал себя человеком, с которым поступили несправедливо.
— Конечно, по ошибке! — подтвердил Шерафуддин.
— Вероятно, да, вероятно… А я шесть месяцев отсидел во времена Австрии за то, что поцеловал землю, когда приехал после выпускных экзаменов в Сербию…
Он говорил «вероятно, вероятно», а Шерафуддин смотрел на его лицо с отвисшими щеками, и ему было стыдно за оскорбление, нанесенное этому человеку, и он думал, чем бы исцелить его рану.
— Знаете, — рассказывал доктор, — моему отцу не откажешь в ловкости, сразу после оккупации Боснии он завел лесопилку, тогда строили железную дорогу, хотя выступал против Австрии на стороне этого прохвоста муллы Шемсекадича. «Хусейн-эфенди, — сказал ему тот, — лучше нам всем до последнего человека погибнуть, чем жить под игом…» Отец был мужчина жилистый, жизнеспособный, он боролся, и так уж случилось, что не погиб… Ух, рубашка у меня вся мокрая, не знаю, как сказать жене. Вместо того чтобы искать удовольствия в том богатстве, которое сегодня предоставляет молодому человеку культура, девчонка со своими приятелями нашла себе развлечение… влить мне за шиворот… Да, нас было всего пять мусульман, учившихся в Банялуке. Хочу вам сказать, директор наш, знаете ли, по-своему нас любил… А когда мы получили степень доктора в Загребе, и все трое боснийцы, нам подарили по золотому перстню от Франца Иосифа — auspicius regis [76] Знак императора (лат.) .
. Один хорват, один серб и один мусульманин. Да, уже покойный Карамехмедович. Ну, поцеловали мы сербскую землю — и за это шесть месяцев… Но моя рубашка… Тяжело придется нашей цивилизации… А в первую ночь на мосту оказалась какая-то женщина, сжалась в комок, я достал кошелек, дал ей два динара, белых, она так обрадовалась, схватила деньги и привстала поцеловать мне руку. Потом дома посмотрел, а кошелька в кармане нет. И было-то двести-триста старых динаров.
— Так это же двадцать-тридцать тысяч…
— Да, что-то в этом роде. Думаю, она обеими руками… Посмотрите, как вон тот несет цветы. То ли не умеет, то ли не любит.
Девушка, сидевшая с приятельницами за столом, подняла руку, и Шерафуддин увидел под мышкой темный черный островок, легкую тень, значит, побрила.
— Теперь все так делают, во всей христианской Европе, — сказал старый доктор.
Шерафуддин был взволнован. Пушистые волосы, короткая стрижка, небольшой вырез и чуть видна тонкая золотая цепочка. Шерафуддин отвернулся и заметил, что у доктора красивые ровные зубы. Он возмутился, да, наша цивилизация не скоро погибнет, если столь усердно печется о своей жизнеспособности, такие зубы делает только частник, и, конечно, за огромные деньги, приложив немало умения, чтобы придать им естественный вид, чего не получишь в обычной поликлинике.
— Это мои, — поспешил вывести его из заблуждения доктор, — я никогда не курил… Я люблю ракию, но только понюхать. Ракия в рюмке — одно, а в человеческом организме — другое. У вас были случаи в этом убедиться.
Неужели не было? — с отвращением подумал Шерафуддин. В ракии сконцентрирован дивный запах сливы. Но влей лишь рюмку ароматного напитка в человека, склонись к нему или позволь себя обнять и уверять, что он любит тебя, как родного брата, даже больше, и поймешь — это совсем другое дело.
— И так все, пока не коснется человека непосредственно, — добавил доктор. — Все прекрасно только на бумаге… гордость, восхищение… С начала мира… Христианство… Ислам… И до сегодняшнего дня.
Наконец она оглянулась и посмотрела на Шерафуддина, словно они старые знакомые, словно точно знала, что Шерафуддин сидит поблизости. Ее черные глаза испускали именно те лучи, которые вонзаются в сердце мужчины.
Как это получается, что за сила у них в глазах, думал Шерафуддин, интересно, такие лучи исходят из сердца или из ума? И возникают, когда есть любовь или могла бы быть? Или они так же смотрят на бетонный столб, на дохлую кошку у дороги, на иностранку, подающую бумаги в окошечко. Ее приятельницы тоже были бы хорошенькие, но дома, на улице, в поезде — там, где не было ее. Ему стало интересно, повернется ли она еще, посмотрит ли на него таким же взглядом. Она теребила золотую цепочку, машинально покусывала кулон, и волшебство цепочки заключалось в том, что она была на ее шее, и в том, что она была такой изящной, в отличие от тяжелых перстней, привозимых из Турции, квадратных, массивных, они лучше послужили бы в кровавой драке, чем в качестве украшения. Но дело было не в цепочке, а в тонком золотом обрамлении шеи, и даже не в самом обрамлении, а в скромности и чувстве меры, в презрении ко всемогущему металлу, она его игнорировала.
Читать дальше