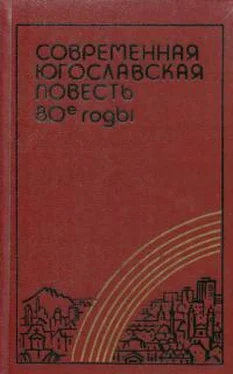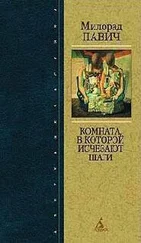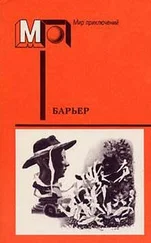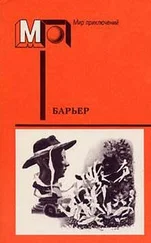— Да вы шутник, а ведь профессор и доктор. Легко сказать, легко показать, я уже пробовал, шагнул было за порог — и тут же обратно. Вы видели пьяниц? Они легко выкарабкиваются? Шагнут, еще ногу на землю не поставят — два месяца больницы, и снова за старое, потом опять больница, и все сначала. Брр… брр… — Его передернуло. — И после больницы к ней, к своей родимой матери, ракии. Так и мы, понимаете, мы не можем, мы прикованы к этим столам, в голове у нас тузы, валеты, восьмерки, короли, десятки… Ек-ду, джихар, пенджу-се, ну, вы знаете. Спасите, мы тут погибнем, вот увидите, — захныкал он.
— Не понимаю, в чем ваша беда, — сказал Шерафуддин, — люди отдали обществу все, что могли, и заслужили, чтобы общество возместило и вознаградило их труд и пот, а теперь живут в свое удовольствие.
— Фу!.. Фу!.. Удовольствие! Рабство, а не удовольствие. Хоть бы вы этого не говорили, вы, на кого мы так надеялись.
Может быть, старик прав, подумал Шерафуддин, такая жизнь ничего не стоит, изо дня в день одно и то же: встать пораньше, как по команде занять свое место, лупить картами об стол, ловить взглядом подброшенные белые кости, перемещать деревянные фишки с одной стороны на другую, шеш-беш, джихар, пенджу-се… Воистину, это не для живого человека — так, без единой мысли, может существовать лишь дерево с ветками и листьями, оно вросло в землю и не в силах двинуться. Он прав, настоящее рабство. Человек не дерево, человек — свободное, мыслящее существо, мир, противоположный дереву, человек, пока жив, не должен быть к чему-то прикован. Если никак иначе, то хотя бы мыслью, своей мыслью человек способен передвигаться в пространстве, бродяжить, ездить, путешествовать, переноситься с места на место, из страны в страну, со звезды на звезду.
— Помогите!.. Помогите!.. — не переставая ныл старик, он увидел, что Шерафуддин задумался, и понял — наконец разжалобил его, наконец удалось высечь из камня искру понимания и сочувствия.
Шерафуддин бросил взгляд в окно кафаны и остолбенел: все присутствующие были прикованы к столам толстыми цепями, а старый невозмутимый хозяин злобно глядел на него, что могло означать лишь одно: проваливай. И вместо помощи, вместо совета или утешения, даже не стукнув кулаком по столу, как на его месте поступил бы французский поэт, Шерафуддин повернулся и пустился бежать изо всех сил, высоко подбрасывая ноги, так что пятки хлопали по пояснице.
— Помогите!.. Помогите!.. — завопил старик в дверях кафаны, но Шерафуддин не оглянулся, пока не достиг каштанов и не повернул на другую улицу.
— Разве так можно? — спрашивал он себя, когда наконец остановился, с трудом переводя дыхание. — Разве это старость?
Почти весь день он бесцельно бродил по городу с растревоженной после пережитого душой. Поднялся до самого конца узкой, мощенной булыжником улицы. Сгущались сумерки. Похолодало. Широкую котловину города наполнял плотный грязно-белый туман, сквозь который нельзя было различить ни домов, ни труб, ни минаретов. Подъехавший сюда на машине не поверил бы, что перед ним огромная впадина, и, вероятно, продолжил бы путь, так в старинных легендах мчавшиеся во весь опор всадники вдруг исчезали во мгле, вообразив, что под ними настелена шерсть.
У Шерафуддина дел было по горло, не успевал сбрасывать с плеч то, что на них взваливал. Он вел уже почти проигранный бой с бездушным деятелем, недоплатившим горемыке-рабочему, тот бился два года и наверняка выиграл бы, но слишком поздно, а близкого человека, который за пару минут решил бы дело по телефону, у него не нашлось; сражаясь с бюрократами, выбивал квартиру для женщины с кучей детей; хлопотал о пособии или повышении пенсии одному несчастному, жертве черствости общества, уламывая некую канцелярскую крысу, обожавшую все складывать в стопочку; не в силах оторваться от сладкого кофе и сладкой болтовни, она все дела переносила на понедельник или бросала: «зайдите через неделю» — и сразу превращалась в тигрицу, если дело касалось ее динара, ей и в голову не приходило, что этому несчастному необходимо получить свой динар сегодня и только сегодня, а не через неделю, как, впрочем, и ей; воевал с начальником, который был столь же суровым и беспощадным к слабому, сколь добрым и заискивающим перед более сильным и высокопоставленным.
В конце концов ему нужно, и тоже сегодня, добраться до своей берлоги. В последнее время он чувствовал себя заключенным, которого на день выводят на работу, как вольного, но когда наступает вечер и он бросает мастерок, его возвращают в тюрьму, и нельзя забыть, что он такой же узник, как все. Квартира у него просторная, хорошо обставлена, но слишком уж велика и нарядна для одинокого пожилого человека, прямо саркофаг, красивый, дорогой, с неподъемной крышкой из армированного бетона, украшенной ангелами… Книги и стеллажи покрывает плотный слой пыли, новые и еще не распакованные книги валяются на шкафах и на полу. Незаконченная рукопись, разбросанная по столу, тоже покрылась пылью. Балконные цветы — азалии, цикламены и бегонии, среди них и королевская бегония, — не расцвели, а засохли и пожухли, только адам, первый человек, полный сил, ветвился в своем углу, в другом рос филодендрон и разбрасывал кривые плети далеко за пределы своих владений.
Читать дальше