«Мне надо идти! — все хрипит он да вырывается. — Поезд уйдет. Мне надо идти!»
«Никуда тебе не надо ходить!» — успокаиваю я.
А он вдруг как взглянет на меня:
«Не пустишь, Катица?»
«Не пущу!»
«Сама пожалеешь, что не пустила», — только и сказал он; потом обмяк сразу и не вырывался больше, дал уложить себя.
На другое утро приехал врач из Тета — очень старый был человек, — бросил только взгляд на отца и похлопал меня по плечу:
«Молодец! Спасли жизнь мужу. Но маленький не выживет».
— Я ведь и не сказала, что была тогда на девятом месяце… — заканчивает мать.
— И ребеночек взаправду умер? — обязательно спрашиваю я в этом месте и слежу, чтобы голос у меня не дрожал.
— Умер. Всего годочек и пожил, и то без радости. Не улыбнулся ни разу. Да он и не умел улыбаться-то. Мать моя, бывало, так и звала его: бедный ты мой горюнчик, ишь пригорюнился. Понапрасну таскали его от врача к врачу, никто не находил никакой болезни… Не был он для жизни приспособлен, а это тяжелей всякой хвори. Подкосили его те две недели.
Пятьдесят лет вместе! Конечно, случалось, что они и ссорились. И когда я думаю об этом, мне приходит в голову, что два настоящих человека любят друг друга, как язык и колокол: бьются и бьются друг о друга, но не потому, что им так нравится биться, а чтобы извлечь еще более чистый звук.
Они старше нашего столетия. Они пережили две мировые войны, хортистский режим, послевоенную разруху. Видели, как их клочок земли, где они трудились пятьдесят лет, перепахали вместе с соседними участками, а виноградник смяли и милые сердцу ореховые деревья вырубили, потому что они мешали трактору.
На столе, по обеим сторонам которого они сидят вечерами и каждый в своем кресле (каждый всегда только в своем), стоят горшок с цикламеном — он распускается ко дню Каталин, — и старый будильник, и погнутый гвоздь, которым заводят будильник, и глиняная пепельница с видом городка Сентэндре, тут же лежат бумаги, газеты или книги.
Конец января, вечер. В январе рано кончают дела по хозяйству (рано смеркается) и уже с пяти часов вечера устраиваются на отдых в теплой комнате. Гости зимой обычно приходят засветло или по субботам и воскресеньям. Родители все время предоставлены самим себе и любят эти долгие, спокойные вечера. Сыновья их где-то в городе сдают экзамены, а я в кухне испытываю муки творчества — в фабуле романа, над которым я сейчас работаю, все еще осталось несколько прорех. Такая тишина кругом — и в деревне, и в доме, — что я слышу, как тикают часы у меня на руке. Впрочем, нет. Вот сейчас из комнаты доносятся звуки музыки.
Я заглядываю туда на минуту.
Родители уютно устроились в креслах (каждый в своем) и смотрят телевизор. Показывают олимпийские соревнования в Инсбруке; тоненькая, словно былинка, девушка скользит по зеркальному льду. Пятьдесят лет вместе! Они сидят рядом, утомленные, умиротворенные, но не утратившие жажды жизни.
И по-моему, счастливые.
Мне вспоминаются строки стихотворения, которые я прочитала весной сорок пятого, после чего на всю жизнь полюбила Петера Вереша:
Нам до́лжно привнести сюда извне
весь мир великий —
все лучшее, прекрасное, святое,
что в жизни есть.
Перевод Т. Воронкиной.
Дед умер за два года до моего рождения, и все-таки я не могу примириться с мыслью, что не знала его.
Мои старшие братья и сестры очень любили деда. Но понапрасну я расспрашивала их, они сами тогда были еще слишком малы, чтобы описать мне его. Дети — и этим многое сказано — очень любили своего деда. Кому удается найти путь к чутким детским сердцам? Лишь тому, кто любит их. Кто знает, что быть ребенком — несчастье. Кто делает им подарки, потому что чувствует в этом потребность, не так, как взрослые, которые одаривают друг друга по привычке. И дарит не электрическую железную дорогу или водяное ружье, а что-нибудь такое, чего нельзя купить и что будет принадлежать только им.
Я в детстве не знала ни деда, ни бабушки. Правда, одна моя бабушка была жива, но жила отдельно от нас; это была строгая старуха, и мы побаивались ее. Но вот дедушку я могу себе ясно представить. Могу представить, как теплым майским вечером он сидит на колоде в саду и вырезает дудку для внуков. Рукояткой ножа легонько постукивает по ветке бузины, чтобы отбить кору и снять ее целиком, и при этом тихонько напевает:
Играй, дудка, хорошо,
Положу под колесо,
А оттуда выну —
За шесток задвину,
А оттуда выну —
И в колодец кину
Со водой горючей
Да землей зыбучей,
А оттуда выну…
Читать дальше





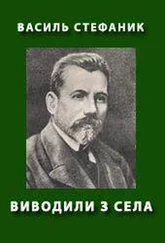

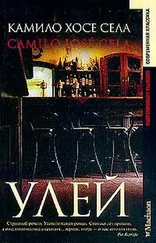


![Женевьева Гинзбург - Вдова вдове [Чуткие практичные идеи, как начать жить заново]](/books/404603/zheneveva-ginzburg-vdova-vdove-chutkie-praktichnye-thumb.webp)

