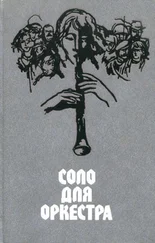У меня создалось впечатление, и это подтвердилось, что Ройко ждет от меня решения, более того — приказа. Все, и точка!
Назавтра Ройко действительно ко мне явился и принес запечатанный конверт, где лежало направление на лечение от алкоголизма.
— Все бы ничего, штейгерко, да вот нету у меня денег на дорогу. Всего-то делов три полста — и порядок, — вздохнул Ройко со знакомой мне униженной, нищенской интонацией.
С тяжелым сердцем я достал из ящика старую коробку из-под шоколада, куда Королева Элишка кладет деньги и где ведет учет необходимых хозяйственных расходов. Эта коробка вот уже много лет служит нам портативной сберкассой. Я вытащил из нее три бумажки по пятьдесят крон. Просить из профсоюзных мне не хотелось: с одной стороны, не больно приятно, с другой — это задержит срочную акцию по отправке Ройко в лечебницу.
— Слышь, Ройко, — заявил я отечески назидательным тоном, — если сегодня вечером я поймаю тебя в «Итрженке», то тогда уж берегись. Ишь ты! Руки кверху — и чардаш!.. Так набью морду — сам себя не узнаешь!..
— Ладно, золотой-серебряный, ладно, — ответил Ройко. — Слышу.
И ушел, оставив меня размышлять над вопросом, как я объясню Королеве Элишке, почему одолжил сто пятьдесят крон цыгану на дорогу в лечебницу.
Я позвонил туда на следующий день.
— В вашу лечебницу поступил сегодня утром Ройко Боды, Раймунд Боды, цыган по национальности? — орал я в гудящую трубку.
Прошло какое-то время, пока девушка на другом конце провода поняла меня.
— Да, — ответил свежий голосок. — Вы, наверное, имеете в виду человека, который передрался с половиной больных и укусил пана доктора? Да, если это он, то мы его сегодня утром приняли.
Выдалось несколько теплых летних дней. Я, когда у меня бывала утренняя смена, совал в сумку плавки и побольше еды и прямо с шахты отправлялся на пляж. Там полоскался до четырех, когда у Элишки-младшей заканчивались уроки, после чего мы уже полоскались с ней вместе.
Как-то на пляже лежал и грел свое брюшко и доктор Ого-го. Он приветливо пригласил меня на свое одеяло, где расположилась также и его жена, художница, весьма приятная и умная женщина. Она ездила с шахты на шахту и в пыльных сортировках, ламповых и эстакадах черпала для своих картин сюжеты, находя там красоту и очарование.
Сейчас доктор Ого-го уже не работает, он вышел на пенсию, они с женой купили где-то в Рудных горах дачку и если живы, то и по сей день перебраниваются весьма язвительно и остроумно.
Доктор Ого-го, а если по-настоящему, то доктор Пецин, очень опытный врач, воевавший в годы войны на Восточном фронте. Он очень не любит попадаться на шахтерский «крючок», когда после весело проведенного воскресенья некоторым горнякам неохота спускаться в забой и они, симулируя болезнь, являются к нему за больничным. Доктор прописывал симулянту безвредное лекарство, заставлял у себя на глазах проглотить порошок и запить водой, после чего, сияя, провозглашал: «Вот видишь, теперь ты, парень, ого-го, ступай работай!» Так и прозвали его шахтеры — Ого-го.
На первый взгляд доктор Ого-го казался сумасбродным старикашкой, который получает удовольствие от того, что говорит тебе гадости.
Когда я, приняв его приглашение, опустился рядом на одеяло, он с минуту отсутствующе взирал на небо, а потом тоном трогательного сожаления к самому себе произнес:
— Я уже старый, никому не нужный лекарь… Я теперь на Болденке лишний… вместо меня лечит пан мастер…
Я не знал, о чем речь, но мне не понравилось, что его супруга довольно усмехается.
— Какой мастер? — спросил я в недобром предчувствии.
— Является в кабинет Ройко Боды, цыган, — не обращая внимания на мой вопрос, продолжал доктор Ого-го, — и заявляет, что ему, дескать, нужно направление в клинику, лечиться от пьянства, ему, мол, «мастер-штейгерко велел». «Какой мастер?» — спрашиваю я, чтобы узнать фамилию конкурирующего врача. «А тот самый, — говорит цыган, — рябой, у которого на правом глазу бельмо, а левый вовсе не видит». Приказ начальства есть приказ начальства, вот я и выдал цыгану направление на комиссию!
Что касается моих глаз, то доктор Ого-го все выдумал. Действительно, около правого глаза у меня есть иссиня-черная угольная отметина, память о первых шагах на Болденке. Тогда меня поставили подрывником. И работали мы только с бикфордовым шнуром — другой техники не было. Один раз шнур оказался с браком. За те несколько секунд, что оставались до взрыва, мой напарник, значительно старше и опытнее меня, успел надежно спрятаться за прочным укрытием деревянной крестовины. И хоть на глазу у меня никакого бельма нет, зато осталась вечная памятка о том дне в виде иссиня-черного полумонокля от засевшего в коже угля. И — чего уж тут греха таить — побитая синими порошинами правая сторона спины. Своими профессиональными отметинами я гордился, пока не обнаружил, что сами шахтеры таких вот «меченых»считают отнюдь не героями, а скорее растяпами и неумехами.
Читать дальше