Толпа при появлении Мирякова и Уманского замолчала и расступилась, освобождая дорогу. Елизар лежал на траве с открытыми глазами, на его белой рубашке расплылось красное пятно, напоминавшее очертаниями бородатое лицо. Рядом с ним, прислонившись спиной к дереву, сидела Марга, прижавшая обе руки ко рту, словно японская обезьянка, которая пытается не выпустить наружу живущее внутри зло. Рядом примостился Андрюша, комкая в руках бороду и парик. На верхней половине лица у него еще оставался бурый грим, странно контрастируя с белым подбородком и щеками. Полицейский, оказавшийся настоящим, стоял чуть поодаль, придерживая за локоть щуплого паренька, зарезавшего Елизара.
Михаил Ильич поставил чемодан, задвинув складную ручку в глубину его пластикового тела, отчего тот медленно завалился на землю, карикатурно повторяя недавнее падение бога, и присел перед Елизаром на корточки, пытаясь нащупать на тонкой шее пульс. Пульса не было, Елизар был мертв. Миряков, не вставая, оглянулся. Все молча смотрели на него. Марга, отняв руки ото рта, беззвучно, одними губами, попросила: «Пожалуйста». Михаил Ильич отвернулся, положил правую руку на бородатое пятно, а левую — на лоб Елизара и, чувствуя себя идиотом, закрыл глаза. Через несколько секунд тело дрогнуло, и Миряков, повернув голову, посмотрел Елизару в глаза. В них больше не было ничего страшного — только свет и покой.
— Я воскрес, — тихо сказал ему Елизар. — Значит, я и правда бог?
— Конечно, Елька, — ответил Миряков. — Конечно.
Михаил Ильич поднял чемодан и, отчего-то не догадавшись выдвинуть ручку, понес его обратно к общежитию.
— Ходил по городу, изображал душу, отягощенную грузом грехов, — объяснил Миряков Мите, который сидя заснул на его кровати и теперь удивленно таращился на Михаила Ильича и его чемодан, одновременно пытаясь выковырять из-под очков сонный мусор. — Мы с тобой слишком любим слова, а проповедь должна быть наглядной, как кино и цирк. Назойливой, как запах попкорна в зале и фотограф с анемичным удавом в фойе. Неизбежной, как вспышка темноты перед началом фильма и оглушительная тишина перед смертельным сальто гимнастки с голыми белыми бедрами. И простой, как чемодан. Грехи — это тот самый гроб на колесиках, который приехал к каждому из нас, как и обещал в детстве, поэтому мы всю жизнь таскаем его за собой да еще радуемся, как его удобно катить. А его надо просто выкинуть и идти дальше налегке. Доходчиво, да? А что, кстати, в твоей комнате? Засада?
— Что врач сказал? — спросил Митя.
— Врач сказал: «Исцелися сам!» Или это я ему сказал? В общем, состоялась увлекательная беседа двух выдающихся умов, которую следовало записать золотыми иглами в уголках чьих-нибудь глаз. Провинциальные врачи — это все-таки уникальное явление. Никто не воплощает в такой степени христианский идеал душевных и физических страданий и в то же время никто так не далек от бога, как эскулапы из маленьких городов. Это их врачевание грешной плоти, это отрицание Христа — причем отрицание не откуда-нибудь из библиотек и прочих притонов, нет: сами висят на кресте и оттуда отрицают. Сидит этот врач здесь, в Краснопольской больнице, или в каком-нибудь своем Хвостокрутске и целыми днями слушает, как тянется вязкая кровь в холодных старухах. А после обеда приходит дядя Миша, у которого из руки торчит трехгранный напильник, но ему не больно, потому что пьет шестой день. А за ним привозят Витька, который на спор с пятого этажа прыгнул и ничего не сломал, только об ветки сильно ободрался. А потом приносят девочку, и она уже мертвая и даже холодная, но родители немножко сошли с ума и требуют ее вылечить.
И врач лечит: и дядю Мишу, и Витька, и даже мертвую девочку лечит — тем более что папа у нее полицейский и засунул свой пистолет доктору в холодное ухо, — но страданий почему-то меньше не становится. То есть он, конечно, писает в горящем доме на свою половицу, но пожар что-то не успокаивается. И вот врачу может прийти в голову, что исцелять нужно не столько тела, сколько души. Или, например, не души, а общество. То есть можно, значит, книжки душеспасительные писать, а можно революцию устроить. Но пациентов по-любому придется бросить. Ну, может, если сильно напрячься, то не всех, но все-таки бросить. Эти спутанные вены, хрупкие шейки, дряблые сердца. А он все-таки врач. А ему их все-таки жалко. А бог по-прежнему молчит — ему, видимо, нет. Иовом-то быть хорошо: страдаешь себе в одиночку и страдаешь, а тут люди вокруг мучаются. И врач тоже мучается. Сядет вечером выпить с учителем математики из техникума да местным чиновником по культуре, вором и подлецом, — а больше-то ему и поговорить не с кем — и мучается. И вот что он должен думать о боге? Какая тут может быть вера? За свои страдания бога можно простить, а за чужие? Возьми любого классика: у Гоголя несчастный немой Христиан Гибнер одним своим именем свидетельствует о смерти бога, у Лермонтова доктор Вернер по прозвищу Мефистофель везет на заклание Печорина, а потом вкладывает скальпель в руку Базарову. Кто там у нас дальше? Доктор Зосимов у Достоевского? Так это вообще старец Зосима в заляпанном кровью лотке из операционной криво отражается да еще ручки свои жирные к душе и ее болезням тянет. Впрочем, вру, это уже столичный врач. Короче говоря, неслучайно дело кончилось Булгаковым и его дьявольщиной. Хотя нет, не кончилось. Возьмем, к примеру, хромого доктора Устименко и его врага, ставшего священником…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
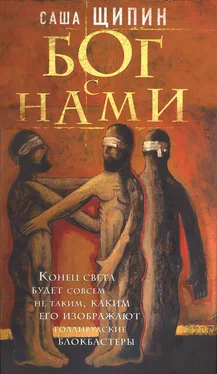








![Александр Щипин - Идиоты [сборник]](/books/429316/aleksandr-chipin-idioty-sbornik-thumb.webp)


