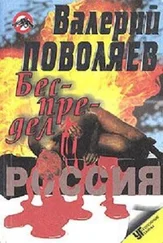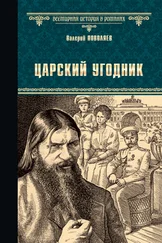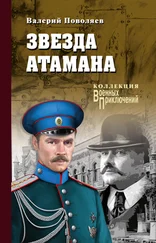– Цып-цып-цып, – позвал он курицу успокаивающим шепотом, но этим только насторожил ее.
Грозно, по-петушиному заклекотав, курица вздернула голову и подозрительно оглядела мичмана.
– Нет, не морячка ты, – произнес мичман заискивающе, чем еще больше озаботил курицу.
Тут Коваленко сделал то, чего, наверное, не должен был делать – извлек из-за спины кортик и лихо рассек им пространство. Попал курице точно по шее. Голова куриная с широко распахнутым клювом отлетела в сторону и проворно, будто живой мячик, заскакала по земле, само же тело, лишенное головы, деловито развернулось и помчалось от землянки прочь, в густые, облепленные зелеными мухами кусты.
Мичман обомлел: он много чего повидал на свете, но такого не видел никогда. В следующий миг спохватился, глянул на голову, шебуршавшуюея на земле и, плюнув в нее, помчался за курицей, так ловко улизнувшей от человека.
В руке он продолжал сжимать кортик.
А безголовая курица очень шустро прыгнула в кусты, протаранила их насквозь и исчезла. Коваленко сплюнул себе под ноги и почесал затылок – такого финта от хохлатки он не ожидал. Полина выбралась из землянки и, быстро сообразив, что же произошло, расхохоталась.
Мичман напрягся было, хотел выругать жену за неуместный смех, но потом понял, что это глупо, и расхохотался сам: положение его было более смешное, чем нелепое – ведь под такой кирпич, внезапно спрыгнувший с крыши, может угодить кто угодно, не только мичман – даже капитан первого ранга.
На память о сбежавшей курице чете Коваленко осталась только куриная голова с сизыми веками, наползшими на рыжие помутившиеся глаза, и голодно распахнутым клювом. Само тело, оказавшееся таким прытким, с жилистыми голенастыми ногами и плохо прикрытой жидким пером гузкой, супруги Коваленко так и не нашли.
Душистый куриный шашлык, посыпанный красным перцем, о котором так мечтал мичман, пришлось заменить американской тушенкой, что по мнению Полины, было нисколько не хуже.
Народа на свадьбе было немного, но народ собрался сплоченный, и «шампанское», приготовленное мичманом из спирта, пили дружно и хвалили напиток так же дружно, называли его «цимусом» и «вкусняшкой», и песни, глядя на рябоватый красный закат, предвещавший ветреную погоду, тоже затягивали дружно. Под гармошку главстаршины Пирогова, худого горбоносого парня из подмосковного Наро-Фоминска, способного на своем нехитром музыкальном инструменте исполнять что угодно, даже произведения Баха и Паганини…
Талантливый был человек, хотя и мрачный – главстаршина Пирогов никогда не улыбался.
Впрочем, на это имелись свои причины.
В каждой жилой комнате квартиры номер четыре имелась своя бумажная тарелка, висевшая на стене на самом видном месте – репродуктор.
Народ здешний посматривал на тарелку, склеенную из плотной черной бумаги, со страхом – разные, очень разные вести приносила она, в том числе и не самые добрые. Солоша тоже, когда стирала, поглядывала на тарелку с опаской – вдруг та объявит войну с Америкой или с этой самой… где черные люди с желтыми глазами живут? С тарелкой, как с непредсказуемым малоразумным существом, всякое может случиться, жди от нее чего угодно.
У Солоши завелась товарка – такая же труженица, как и она сама, с вечно багровыми, опухшими от стирки руками – Матрена Красных. Впрочем, для Елены она была тетей Мотей. Хотя и невелик был возраст тети Моти, а трех сыновей, семнадцати, восемнадцати и девятнадцати лет она отправила на фронт.
Двое погибли – младший и средний, старший Паша продолжал воевать, и Мотя Красных переживала за него, молила, чтобы пули и осколки облетали сына стороной.
Мотя часто заходила к Солоше – посидеть, поговорить, всплакнуть, если уж будет совсем невмоготу, она видела в Солоше родную душу, та, в свою очередь, относилась к Моте точно так же – как к родной, в общем.
Когда приходила Мотя, Солоша выпрямлялась над стиральным корытом, стряхивала с рук мыльную пену и снимала с волос косынку. Приход Моти был для нее небольшим праздником – пусть совсем крохотным, но все же праздником.
Руки Солошины были такими же, как и у Моти, – сгубила их в щелоке, в едкой мыльной пене, в каустике, в скоблении по железной стиральной доске, способной стереть пальцы до костей, в горячей воде, сменяемой ледяной для полоскания, – руки у нее были, может быть, даже хуже, чем у Моти – со вздувшимися суставами, полопавшейся кожей и ногтями, не поддающимися лечению, Солоша каждый вечер обрабатывала свои руки целебными мазями, ждала облегчения, но облегчение на приходило.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу