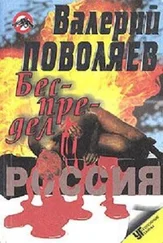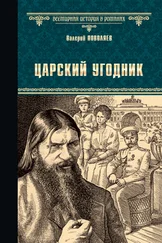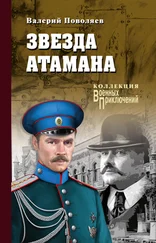– Маняня! – прохрипел дядя Виссарион грозно. – Ты куда, зар-раза, подевалась? А кто будет мыть ноги мужу, а?
Не отозвалась Маняня. Тут дядя Виссарион почувствовал неладное, затих на несколько минут. Мысли тупо ворочались в голове, одна перескакивала на другую, Виссарион слышал треск, от которого ломило в висках, потом все исчезало и в черепушке горячим гвоздем возникал, корячась, один вопрос: где Маняня?
Это было непонятно, и Виссарион, ощущая, как что-то душное перетягивает ему глотку, начинал рычать, колотил кулаком по спинке кровати:
– Маняня!
Жгучее чувство, схожее с ревностью, возникало в нем, некоторое время Виссарион метался, хрипел, потом подхватывал подушку, натягивал ее себе на лицо и затихал.
А Маняня продолжала лежать на крыше… Лишь через два часа немного протрезвевший дядя Виссарион сумел подняться с постели и, шатаясь так сильно, что иногда он втыкался рукою в пол, бормоча что-то глухо под нос, начал обследовать пространство. А вдруг Маняня с любовником своим прячется где-нибудь здесь, в доме? Или во дворе, в куче песка? Или около бочки с водой? А?
Нашли Маняню только в двенадцать часов дня. Она была еще жива. Лежала около трубы, перевернувшись на спину и, сипло хлопая синими, с засохшей в уголках кровью, губами, стонала.
Отвезли Маняню в больницу, расположенную рядом, – по месту жительства, как принято говорить в таких случаях, – имени Склифосовского. Дежурный доктор, майор медицинской службы, обследовав Маняню, сокрушенно покачал головой:
– Не выживет.
Дядя Виссарион, из которого мигом вытрясло хмель не только вчерашней попойки (кстати, многие люди пили потому, что боялись всего – бомбежек, патрулей, очередей в магазинах, диверсантов, боялись, что их заберут на фронт – все это было, было! – они находили спирт, водку, гнали «сучок» на примитивных самогонных аппаратах, превращали в алкоголь опилки, щепу, навоз, кору поваленных взрывами деревьев и пили, пили, пили; единственное, что хорошо было – таких людей насчитывалось в Москве не так уж много. В основном, в тех кругах, где вращался дядя Виссарион), но и всех попоек предыдущих, побледнел.
– Как не выживет? – потрясенно охнул он.
– Да так! Инфаркт случился вчера, примерно в одиннадцать часов ночи… А сейчас сколько времени?
– Час дня.
– Если бы вы привезли больную хотя в час ночи, мы бы ее вытянули… А так, дорогой товарищ, увы, – врач со вздохом развел руки в стороны, – слишком много времени она пролежала без помощи.
– Хы-ы-ы! – вздохнул и тут же захлебнулся своим вздохом дядя Виссарион. Лицо его жалобно скривилось: – Маняня!
Через три дня Маняню похоронили на Ваганьковском кладбище. Хоть и военная была пора, жестокая, трупами никого нельзя было удивить, и на похороны люди почти не ходили, а проводить Маняню в последний путь пришла едва ли не половина Сретенки – многие ее знали и любили.
Несмотря ни на что, дядя Виссарион не считался запойным человеком, хотя употреблял зелья много и, случалось, совершал героические подвиги – прямо из горлышка выливал в себя бутылку водки, и запивал ее не водой, а второй бутылкой, – сердце у него было, как у быка, совсем не реагировало на такие страсти, – затем некоторое время неподвижно сидел на табуретке, с трудом соображая, что же происходит вокруг него, через пять минут вялым кулем валился на постель – наступала пора сна.
В общем, крепкий был человек. Но, оставшись один, без жены, среди мебели, помнившей Маняню живой, упорно сохранявшей ее запахи, протянул недолго, даже до сороковин – сорока дней после смерти Маняни, которые по православным обычаям положено отмечать, не дожил.
В одно холодное утро он не вышел из своей комнаты. Когда к дяде Виссариону заглянула соседка, то увидела его лежащим поверх заправленной постели, вытянувшегося во весь рост, с восковым лицом и скрещенными на груди руками.
Соседка отпрянула от двери и закричала.
Сорок второй год и начало сорок третьего в Москве были такими же тяжелыми, как и год сорок первый – так же было голодно, так же холодно, с такими же патрулями на улицах и комендантским часом… Но все-таки это уже был сорок третий год.
И немецкие самолеты не гудели по ночам над головой, и воздух в городе был другим, и дед Василий уже не ночевал в цехе, как это было раньше, а являлся домой, на тушенную с сухими грибами картошку, которую превосходно готовила бабка Соломонида. Голод, который обрушился на другие семьи, – давил их, давил, заставлял страдать, – семьи Егоровых почти не коснулся. Благодаря, конечно, деду Василию и Елене, а грибы Солоша умудрялась находить и в Москве, практически в центре, больше всего – в пустынном и угрюмом Нескучном саду.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу