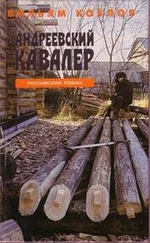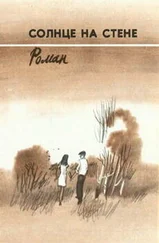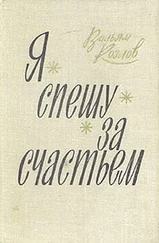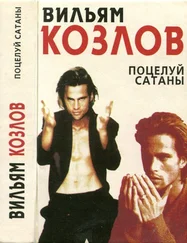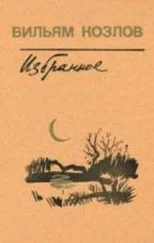Жалко мне стало парня, пошел я с ним этой же ночью на кладбище — днем голосов почему-то не было слышно — и впрямь, слышу хриплые стоны, бормотание. То кажется, доносятся они из могилы, что у ограды, то из свежей Анфисиной. Приложил я ухо к холмику и чудится мне царапанье, тяжкий стон.
— Неси лопаты! — говорю я парню, звали его Леонтий. — Да поживее!
Леонтий удивился, но спорить не стал: побежал в деревню за лопатами, а я, не дожидаясь, стал руками землю на свежей могиле разгребать. Разворошил холм- то, и голос будто громче стал.
Скоро Леонтий подоспел, запыхался весь, глаза горят.
— Дядя Андрей, — говорит, — а что, ежели в гробу- то этот... с рогами и копытами?
— Копай, — говорю.
Раскопали мы яму, сорвали крышку гроба, а оттуда Анфиса Родионова на нас смотрит и глаза ее тоже светятся. И не черная она, а белее полотна белого. Смотрит на нас и плачет в голос.
Что тут с Леонтием было: от радости чуть сам не помер, а вот одну большую промашку мы допустили: надо было как-то близких подготовить, а мы под руки повели ослабевшую в саване Анфису ночью домой. И как на грех дверь отворила ее бабка Пелагея, ей уж было за восемьдесят. Увидела воскресшую внучку, перекрестилась, рот ей перекосило, и грохнулась тут же на пороге...
В той же могиле старушку через три дня похоронили. И голосов больше на кладбище не слышали. А Леонтий с Анфисой и по сию пору живы-здоровы, у них пятеро детей народилось. Да ты знаешь их, Пестрецовы, что живут у болота?..
Его так прозвали после войны. Может, это и несправедливо, но прозвище есть прозвище: прилипнет — потом до самой смерти не отстанет. На войне он не был, потому, как хромал на одну ногу, в детстве разозлившийся на что-то отец на сенокосе покалечил косой. Сухожилие на щиколотке перерезал, с тех пор и хромает Кузьма Спиридонович. В детстве его еще звали: «Рупь пять». Росту он невысокого, коренаст, руки длинные, мозолистые. Выйдя на пенсию, — он работал путевым рабочим на станции — занялся своим хозяйством: отремонтировал старый дом, срубил новую баню, посадил в саду яблонь, вишен, слив. Провел в огород оцинкованные трубы для полива грядок, а в колодец у забора опустил закрепленный на щите насос «Кама». С утра до вечера ковырялся с мотыгой в огороде, полол грядки, делал прививки к яблоням. Ходил вечером на свалку промкомбината и приносил оттуда в мешке цинковые обрезки — ими всю прохудившуюся крышу за два года покрыл. Зацементировал дорожку от калитки, оборудовал подвал, осенью ранним утром ездил на стареньком велосипеде в лес за грибами; сушил их на солнце и на плите дома, а потом продавал заготовителям. Увидев под кустом пустую винную бутылку, не гнушался и клал в корзинку к грибам. А когда их много накапливалось, относил в бельевой корзине в сельмаг.
В отличие от многих односельчан в рот ни капли не брал. Даже в праздники. А раньше, говорят, крепко закладывал. Один раз даже с железной дороги прогнали, но потом снова взяли. Работал он на совесть.
Я часто замечал, что бросившие пить люди становились прекрасными хозяевами, у них находилось время на все. Пьянство, оно убивает в человеке всякий интерес к работе. У местных пьяниц избенки запущенные, сараи с прохудившимися крышами. Мой сосед выпивоха Григорий Матвеевич уже второй раз выписывает в леспромхозе лес, привозит к себе на участок, а потом неокоренный строевой лес годами гниет у бани. А Григорию все никак не собраться сруб для нового хлева срубить...
У Кузьмы Спиридоновича хозяйство на диво было образцовым. И никто еще его не видел сидящим на завалинке без дела. Но в поселке Кузино его почему-то не любили. Старые дружки по выпивке иногда стучались к нему в калитку — запоры у него были крепкие, мудреные — просили в долг на бутылку. Кузьма Спиридонович молча выслушивал бывших собутыльников, поворачивался и, ничего не говоря, выносил рубль или трешку. Редко отказывал, однако обращались к нему с подобными просьбами крайне редко, когда уже больше не к кому было сунуться, а голова трещала с похмелья. Даже потерявшие стыд и совесть забулдыги, и те обходили его дом.
Наверное, все-таки Кузьме Спиридоновичу надоели местные пьяницы, привез он из районного центра породистого щенка — овчарку, сам выдрессировал его и посадил на цепь, натянутую на длинную проволоку. Слышно было, как собака, со звоном волоча по проволоке железное кольцо, обходила участок. После того, как спущенный с цепи пес изрядно осенью потрепал парней, те закаялись ночью после танцев лазить в сад, а яблоки у Кузьмы Спиридоновича славились в поселке отменным вкусом и сочностью.
Читать дальше