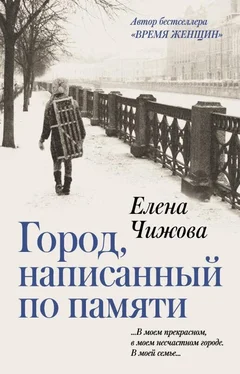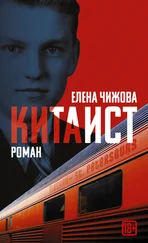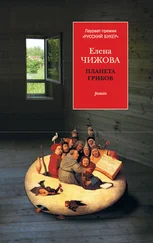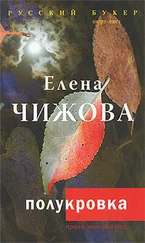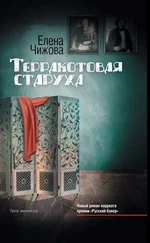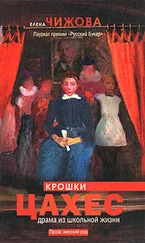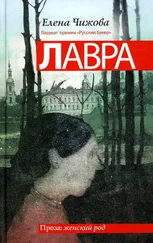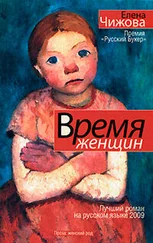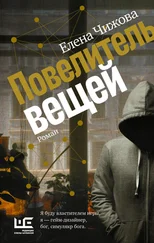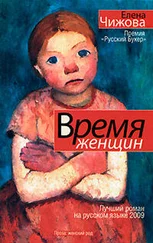И снова пришлось решать: куда? В окрестностях Ярославля, тем более в самом городе, их, Рябининых, знает каждая собака; как ни скрывайся, все одно на виду. От враждебных глаз укроет крупный, столичный, город. В столицах и обустроиться легче.
Так-то оно так, но почему не Москва? Казалось бы, от Ярославля ближе, чуть не вдвое. Но, обдумав и, верно, обсудив с мужем, Мария Лукинична выбирает Петроград. Будто в глубине души знает: чем дальше от родных мест, тем надежней. Потому как дело уже не о том, чтобы скрыться на какое-то время. А о том, чтобы затеряться. На всю оставшуюся жизнь.
Петроград, столица обезумевшей империи, встретил их холодом и пустотой. Как выяснилось вскоре, иллюзорной. На улицах пусто, в домах густо. Двадцать какой-то – это вам не семнадцатый, когда в каждой квартире по семье. Пусть большой, с чадами и домочадцами; пусть и с квартирантами, которым сданы «углы». И даже не революционный, восемнадцатый, когда все, кто мог, уносили ноги. (Кто не мог, тоже уносили: все, что плохо лежит. Хоть во дворцах, хоть в чужих квартирах. Дворники грабежам не препятствовали, а иные и сами пользовались – по мере возможности и сил.)
В начале двадцатых первое «великое переселение народа» [62]в общих чертах завершилось: кто-то унес ноги из России, иных услали принудительно (кого на запад, а кого и на север); кто-то (как бабушка Дуня) успел уехать из Петрограда, а потом вернуться; другие, теперь сказали бы «понаехавшие», сбежали в город из родных деревень – лишь бы спастись от комиссаров и ихних прихвостней, грабивших старый деревенский мiр без зазрения того, что при прежних властях называлось совестью, а при нынешних превратилось в «классовую целесообразность».
Подбивая дебет-кредит: городского населения прибыло. В большинстве – за счет тех, чье сознание не отягощено буржуазными предрассудками, вроде стойкой привычки ходить по-маленькому в унитаз, а не ссать с крыльца. Свой вклад в ползучую люмпенизацию внесли и рабочие окраины: с каждым годом подступая все ближе к центру, они привносили в жизнь привычную им скученность. И ее неизбежное следствие: вонь. По свидетельству очевидцев, воняло везде – на улицах, в квартирах. Но в особенности на лестницах.
Первые дни она, открыв входную дверь, вздрагивала. Потом не то чтобы принюхалась – свыклась.
Всей семьей, с младенцем Григорием на руках, они обходили город, надеясь наткнуться на объявление: сдается-де внаем – пока не убедились: беда-то не в вони, а в том, что все отлаженные механизмы заклинило. Ни тебе найма, ни продаж. Долго ли, коротко, добрые люди объяснили, ввели в курс дела: нынче – не давеча. Нашел пустую подходящую жилплощадь – селись.
Дивясь этим новым правилам, они выбрали, что поскромнее. Район не самый дальний, но и не в центре. Да и квартира, хоть и большая, но не «барская». (На 1-й Роте, будущей 1-й Красноармейской, баре не обосновывались. Все больше офицеры средних чинов.) Для порядку «сунули» дворнику – какая-никакая, а гарантия: вроде как не самовольно. Он и открыл своим ключом. Две комнаты. Которая поменьше – для них с мужем. Вторая, побольше, – для детей. В остальных комнатах соседи: хочешь не хочешь, а находи общий язык.
Потом, когда начальные страхи миновали, они вернулись к привычной лексике, но по первости, строго-настрого наказав старшим сыновьям молчать побольше («здрасьте»-«до свидания» – и хватит), старательно, к месту и не к месту, подпускали всяческих надысь, инда и третьеводни , с которыми давно распрощались. Кажется, еще в прежнем поколении: моих прапрадедов.
Важнейший элемент социальной мимикрии – внешний вид. С этим, судя по всему, проблем не возникло. За время, пока жили-перемогались в Больших Погорелках, прежний, промышленно-купеческий лоск успел сойти. То, в чем они явились в город, вряд ли зипуны или поддёвы – но от сермяги, грубой крестьянской одёжи , недалеко.
Мало-помалу приноровились. К соседям; к жизни в общей квартире, «коммуналке» – хотя само это слово, ставшее базовым в последующие десятилетия, тогда, в начале двадцатых, еще звучало не так широко.
Оставалось приспособиться к своей новой роли в пост- революционном спектакле, за перипетиями которого мы, потомки, следим с последнего, третьего яруса – если вообще следим.
Известно, что кульминация экономической депрессии пришлась на 1923-й. Но продовольственные карточки упразднили раньше, с началом НЭПа. Эту новую экономическую политику, если продолжить театральные сравнения, можно назвать антрактом между двумя актами: «военным коммунизмом» и «великим переломом», иными словами, насильственным переходом к мобилизационной экономике с предельной концентрацией людских и материальных ресурсов в руках государства и политическими репрессиями против целых классов и социальных групп – прежде всего «кулаков».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу