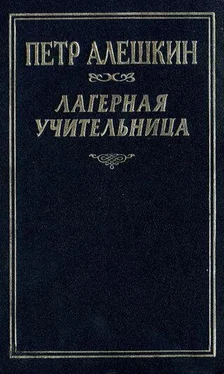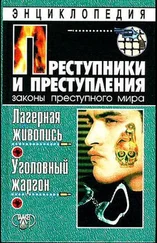— Как дела-то у вас? — спросил Василий Гаврилович.
— Я последние дни на заводе, а Галя сегодня первый день в жэке отработала… Возбужденная пришла. Говорит, интересней, чем на заводе.
— Денег там маловато платят…
— Я без дела сидеть не буду… Осмотрюсь в институте и куда-нибудь пристроюсь. Работы много, были бы руки!
— А нога как? Не беспокоит?
— Я уж забыл о ней! — засмеялся Иван.
— Мы с матерью прописку тебе сделаем… Это не вопрос! Жалейте только друг друга. Теперь сам, наверно, видишь, ты для нее, и она для тебя родней отца-матери. Вы не пожалеете друг друга, другие вас жалеть не будут…
Утром было морозно. Небо серое, туманное, и намека не было на солнце, но к обеду вдруг очистилось, и в цехе стало светлее, веселее, хотя солнечный свет с трудом пробивался сквозь слой пыли на стеклах окон под потолком. Солнечные дни в Москве редки. Небо почти всегда пустое, однообразное, грустное. Зимние дни, словно долгие сумерки: тягостно, грустно. Солнце радовало, веселило. Ира привычно нажимала кнопки. Пресс, шипя, обрушивался на стальную пластину, замирал на мгновение, тужился, выдавливая крышку с пристуком, отрубал и поднимался, посапывая, довольный, что удачно сделал дело. Наверху затихал и, услышав, как звякнула готовая крышка, упав в железный ящик, снова с шипением рьяно бросался на подставленную пластину. Шипение, стук, звяканье готовой крышки — бесконечный ритм этот сегодня бодрит, и мысли веселее, и кажутся напрасными переживания из-за ухода Романа в официанты. У каждого свой путь, и, может быть, Роман найдет себя в этом деле, а если разочаруется, на завод вернуться несложно.
Были эти мысли и по пути в детский сад. Широкая дорожка в парке извивалась меж деревьев по сероватому снегу. Верхушки деревьев алели. Край солнца еще блестел над сборочным цехом, над крышей с тонким розоватым слоем снега. В детском саду, как всегда, было многолюдно. Слышался смех, плач, возгласы детей, сердитые и ласковые голоса родителей. Много мужчин. Одни вели к выходу детей, другие еще одевали. Воспитательница, худощавая девушка со впалыми щеками и сильно выпирающими от этого скулами, повернулась к Ире, вскинула длинные густые ресницы и сказала, что Соню взял Роман. Ира удивилась. Он должен был сегодня работать допоздна.
Солнце скрылось за заводскими корпусами. Небо насупилось, стало сумрачно и на душе Иры. Почувствовалась усталость. Тревожно опять от неизвестности.
Из комнаты вышел Роман, услышав, как она открыла дверь, взял сумку, поставил на табуретку и начал помогать снимать пальто.
— Отпустили, — говорил он. — Шишка какая-то из Моссовета ресторан на вечер закупила. Его свои официанты обслуживают, а меня домой отпустили, чтоб под ногами не путался…
Роман старался говорить бодро, но за напускной бодростью ощущалась какая-то неуверенность, словно он чувствовал вину перед ней и пытался скрыть ее за суетливыми словами. Он быстро и ловко снял с нее пальто и повесил на крючок.
«Как он жалок!» — мелькнуло вдруг в голове Иры, и то, что он так ловко снял с нее пальто, вызвало у нее раздражение. «Манеры слуги появляются!»
— Соня что делает? — спросила Ира, стараясь скрыть раздражение.
— Мы кушаем.
Ира направилась в комнату, оставив сумку на табуретке.
Соня сидела за столом и ела бутерброд с осетриной. Три еще таких же бутерброда лежали перед ней на тарелке. На осетрину раньше Роман денег не тратил, считал такую еду роскошью. Соня увидела мать, улыбнулась ей навстречу своими живыми зеленоватыми глазами и ткнула пальцем в бутерброд на тарелке:
— Пирог…
— Папа принес? — спросила Ира, целуя в мягкую прохладную щеку, и, несмотря на то, что хотелось подавить раздражение, не выдержала, произнесла, не глядя на Романа: — Считаешь, пора пришла осетрину… Хватит ли до получки?
Она скинула его руки и резко повернулась, уже не сдерживаясь:
— Как так?
— Остались… Я взял… Все берут…
Виноватый тон говорил ей только одно: он виноват.
— Объедки, значит! — выкрикнула Ира истерично, чувствуя дрожь в руках, и, не владея собой, подскочила к столу, вырвала из руки Сони бутерброд, схватила с тарелки нетронутые, смяла их и выскочила из комнаты. На кухне швырнула куски в ведро и, сжимая горло, чтобы удержать рыдания, упала на табуретку возле стола. Из комнаты донесся плач дочери, и слезы сами брызнули из глаз.
День был солнечный, и морозец вечером здоровый, крепкий. Дышалось легко. Егоркин бежал по тропинке к лесопарку, слушал, как бодро взрывается скрипом снег под ногами, поглядывал в сторону двадцатидвухэтажного дома слева от парка, не видно ли там бегущей ему наперерез фигурки Наташи. Егоркины жили от лесопарка в двух километрах, а Наташа с родителями чуть подальше, с другой стороны. Бежала она сюда напрямик, петляя меж домами. Иван потихоньку трусил по аллее мимо стадиончика. Снег под фонарями блестел, искорками отсвечивал иней на железных прутьях ограды. За ней — каток. Там всегда малолюдно, тихо. Несколько девочек-подростков да два-три паренька перекатываются из угла в угол. Иван помнил, как в детстве, в деревне, мечтал попасть хоть разочек на городской каток, когда видел в кино бурлящую толпу на льду: музыка, смех, полумрак, луч прожектора, выхватывающий то одно счастливое лицо, то другое. Но этот каток был ярко и равнодушно освещен и пуст, хотя парк был со всех сторон окружен многоэтажками. Иван любил кататься на коньках. Осенью, когда первые морозы прихватывали речку, покрывали прозрачным и гладким льдом, Ванек с ребятами гонял на коньках по потрескивающему ледку. Но на этот тихий каток не хотелось. Смех и веселые крики сюда долетали издали, оттуда, где была горка. С нее катались по льду на фанерках и на скользких пластмассовых листах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу