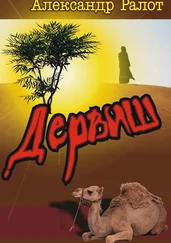Я со смехом обошел сына. Сильные ноги в свежих ссадинах и царапинах, одна штанина разодрана, рубашка изгваздана. Обошел его второй раз и подмигнул:
— Удрал?
— Как видишь.
— Молодец! Не поддавайся!
— Ибрагим! — говорит Малинка тоном старой учительницы. — Что у тебя за вид?!
— Жена, это не твоя забота!
— Помолчи лучше, это ты его распустил.
— Жена, ни слова больше!
— Разве не видишь, какой он?
— Сын, быстро в ванну мыться!
Он ушмыгнул, зыркая на руки Малинки, а я встал перед ней, широко расставив ноги:
— Послушай, сударыня,
дискуссий разводить не будем, а потому прими это без рассуждений: для меня нет большей радости, когда он играет, это доказывает, что он вышел из кризиса, а ты вынуждаешь его лгать и мне и себе, пойми! Мне не нужны дети, которые всего боятся и к пятнадцати годам сереют от оглядок и хороших манер, я хочу, чтоб они были сорванцами. Поняла? Пусть кричит на бога и дерется со всем городом! Хочу, чтоб мой сын каждому мог сказать — нет, если совесть ему так подскажет, а что до совести — у него она будет, частью от меня, частью от покойного отца Латифа Абасовича-Голяка.
Малинка, полагая, что я разозлился на нее, гневно сжала кулаки. А я — не будь дурак — подошел к ней, обнял и, предупреждая слезы и протесты, зашептал:
— Еще бы мне не злиться, я лежу, жду тебя, а ты взялась подметать. Почему не пришла, куропаточка моя милая, давай скорей, сын нескоро вылезет из ванны.
Жена, глупышка, поверила, да еще, поди, в душе упрекнула себя — сама виновата, за веник схватилась, а ведь мы привыкли вместе полежать после обеда.
Так я спас сына от Малинкиных высокопарных педагогических наставлений, которые у любого юнца отобьют охоту к пристойному поведению.
Под вечер Малинка надела платье — красные и зеленые цветы по белому полю, я — новый костюм и накрахмаленную рубашку, разумеется, с галстуком, сын — длинные брюки и туфли с бантиками, и мы пошли по улице, являя собой пример счастливой, благополучной семьи. Я приподнимаю шляпу и с достоинством бормочу: «Добрый вечер!» Малинка любезно, но свысока здоровается со знакомыми, продолжая гордо висеть на моей руке, а мы с сыном перемигиваемся,
смеемся над ритуальными приветствиями, над Малинкой, усердно играющей роль супруги видного человека, показываем язык вслед всем этим начальникам, директорам и важным персонам, и обоим нам хорошо, ведь мы с ним поклонники радости жизни и противники грустного и омерзительного этикета.
На четвертый день после этого
читаю газеты на скамейке перед домом, Малинка вяжет чепчик младенцу, который зашевелился у нее под сердцем, потягиваем кофе — словом, провожаем свежий и сухой апрельский день,
как вдруг Малинка вскрикнула:
— Смотри!
По улице во весь дух несется босоногая ватага. У кого в руках камень, у кого — палка, чертыхаются и улюлюкают, ровно легион, преследующий подпольщика. Ибрагим, на бегу протирая глаза, — кровь заливала ему лицо и грудь — бежит к нашей калитке. Малинка бросила вязанье и кинулась было наперерез погоне, я остановил ее:
— Погоди, посмотрим, что будет делать сын!
— Они его убьют, Данила!
— Не волнуйся, он в меня пошел! Гляди, что будет делать!
Я боялся одного: чтоб Ибрагим, как последний трус, не влетел в открытую калитку, а затем — в дом, и чтоб другому, то есть мне, не пришлось вместо него сражаться с отрядом сорванцов.
Сын добежал до нашего забора, схватился за кол, дернул — не поддается, второй — тоже, а самый разъяренный враг уже подбегал с жердью в руках. Тогда сын взялся за третий кол, поднатужился, выгнулся в дугу и сломал кол! Видя такое дело, орава мальчишек готова была дать стрекача, но где там! Попробуй повернуть обратно с такого разгону!
И разгорелся жаркий бой.
Малинка кричит и вырывается, я крепко держу ее за плечи, а сам подначиваю:
— Так, сокол, в нашем роду все держались до последнего, а ну хвати толстозадого, он, мерзавец, больше всех ярится на тебя,
по голове не бей — опасно, затаскают в милицию, винтовка моя скорострельная,
ой-ей-ей, силен!
Ватага умчалась. Предводитель спотыкался и стонал, прикрывая руками голову. Ибрагим еще раз пнул его ногой в зад, швырнул кол и, по-бойцовски выпрямив спину, вошел во двор. Весь в крови, еще не остыв от гнева, он сиганул мимо нас, я услышал только:
— Я вам покажу, как играть в шарики.
Малинка без чувств упала мне на руки.
В тот вечер я приказал открыть настежь все двери и окна, Малинку нарядил в самое лучшее, что у нее было, сына посадил в передний угол, чтоб он, как сабля у юнака, был на виду, а сам пил и плясал, дурачился, городил всякий вздор, целовал их и таскал на руках… Малинка пила со мной, сперва нехотя, голова, мол, болит, а ближе к полуночи смеялась до слез моим дурачествам и валилась от смеха на тахту, а я умолял ее не брыкаться, не то мы с Ибрагимом останемся без глаз,
Читать дальше