Он мотает головой влево раз пятнадцать, не меньше, и это движение походит на дерганье застрявшей стрелки часов.
Люди ерзают на стульях, обмениваются взглядами. Но встречаются и нерешительные улыбки, особенно среди молодых людей. Пара байкеров – единственные в зале, позволяющие себе смеяться во весь голос. Сверкают их кольца, вдетые в нос и в губы. Женщина за соседним столиком бросает на них взгляд, встает и с продолжительным выдохом выходит из зала, провожаемая взглядами. Ее муж в полной растерянности остается сидеть, но спустя минуту торопится следом.
Довале подходит к небольшой черной доске, установленной на деревянной треноге в глубине сцены. К доске, которую я замечаю только сейчас. Он берет красный мелок и чертит вертикальную линию, а рядом – еще одну линию, короткую и изогнутую. В публике – смешки и перешептывания.
– Вообразите себе, как выглядит Довале: немножко а́хбаль , рожа так и просит, чтобы ее по щекам отхлестали, очки вот такие огромные, толще морды собаки-поводыря, в шортах, пояс которых застегивается на груди, в районе сосков, – мой папа всегда покупал для меня одежду на четыре размера больше: у него на мой счет были большие надежды. А теперь все это мгновенно переверните и поставьте на руки, а? Есть? Догоняете фокус?
Он останавливается на секунду, взвешивает, раздумывает, а затем бросается на землю, раскинув руки по деревянному настилу сцены. Нижняя часть его тела дергается, словно он пытается подняться в воздух. Ноги слабо трепыхаются, он падает на бок и прижимается щекой к доскам настила.
– Вот так со мной везде, по дороге в школу ранец у меня не за спиной, а на груди, дома, в коридоре, из комнаты в кухню, тысячу раз туда и обратно, пока папа не возвращается. И в нашем квартале, между дворами, я спускаюсь по лестнице, поднимаюсь по лестнице, легче легкого, падаю, встаю, вскакиваю на руки…
Он продолжает говорить. Видеть его таким тревожно. Он лежит без движения, только губы его живут, широко раскрыты, двигаются…
– Не знаю, откуда это приходит ко мне, впрочем, все-таки знаю. Я устраивал для мамы спектакли, с этого все и началось. Обычно я разыгрывал для нее разные скетчи вечером, пока Фигаро не вернулся домой, после чего мы становились респектабельными и весьма официальными. Но однажды, просто так, я вдруг уперся кистями рук в пол, задрал ноги, упал один раз, упал второй… Мама хлопала в ладоши, думая, что я это сделал для того, чтобы ее рассмешить; возможно, и вправду так и было, всю жизнь я пытался ее рассмешить.
Он замолкает. Закрывает глаза. В одну секунду он становится только телом. Бездыханным. Мне кажется, что по залу вновь пробегает шелест отчаяния: что́ здесь происходит?
Он поднимается. Безмолвно собирает с пола части своего тела, одну за другой – руку, ногу, голову, ладонь, задницу, – будто подбирает разбросанные предметы одежды. В зале рождается спокойный, мирный смех, такого смеха я нынешним вечером еще не слышал. Тихий смех изумления его тонкостью, его актерской мудростью.
– Я видел, что маме это доставляет удовольствие, и я снова задрал ноги, шатался-болтался, не умея держать стойку на руках, рухнул на пол и еще раз задрал, мама смеялась. Я явственно слышал, как она заливается смехом. Я попытался еще раз, и еще, пока не нашел нужную точку, и голова тоже обрела свое место. Мне стало необычайно спокойно, сделалось хорошо. Только слышал шум крови в ушах, а потом – тишина, все звуки утихли, и я чувствовал: вот, я нашел одно-единственное место в мировом воздушном пространстве, где нет никого, кроме меня.
Он смущенно усмехается, а я вспоминаю, что́ он просил меня увидеть в нем: то́, что исходит от человека во внешний мир помимо его воли. Возможно, это есть только у одного-единственного человека во вселенной.
– Еще? – спрашивает он почти застенчиво.
– Как насчет пары-тройки анекдотов, рыжий? – кричит кто-то из зала, а какой-то мужик рычит:
– Мы пришли сюда ради шуток!
И тут этим двум мужикам с хриплыми голосами громко отвечает женщина:
– Да разве вы не видите, что сегодня он сам – просто анекдот?
И удостаивается лавины смешков.
– А еще не было у меня никаких проблем с равновесием, – продолжает он, но я вижу, что ему причинили боль: губы побелели. – Напротив, именно в ногах я всегда чувствую какую-то дрожь, еще чуть-чуть, и я почти падаю, да и боюсь все время. Была в нашем квартале такая прекрасная традиция: «Бейте Дова!» [76] Наш герой сам себя называет уменьшительно-ласкательным именем «До́вале». Но его имя – «Дов», что означает «медведь». Писатель, видимо, неспроста дал своему герою значимое имя. В квартале к нему обращались «Дов».
Ничего серьезного, там пощечина, тут пинок, легкий толчок кулаком в живот, не со зла, просто так, знаете, технически, на работе отбить карточку. Вы сегодня уже били своего Дова?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




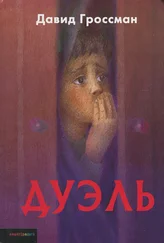


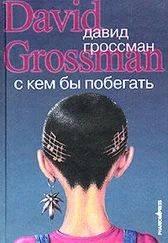

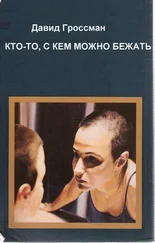

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
