Не сомневаюсь и даже уверена: и на мамином пути были многочисленные уютные рытвины и ухабы, но было главное, что я усвоила от нее: в конце концов приводить все к порядку! Тогда как папу, наоборот, разносили центробежные силы! У него были сотни, если не тысячи, друзей с близлежащих улиц и столько же подруг. Думаю, что у него был невероятно уютный мир вокруг, в котором он находил всё, что надо для самолюбия, в этом и была его трагедия: дальше не пошёл. Помню, как однажды мама горестно, спокойно смотрела на его грузное бесчувственное тело, рухнувшее на тахту, потом она подняла стоящий рядом целлофановый пакет. В нём что-то брякнуло. Мама с удивлением вытащила оттуда серебряные стопки с эмалью, нашу семейную гордость. Она поставила их в сервант и потом спросила, когда папа очухался:
— Скажи, пожалуйста, а зачем ты брал стопки?
— Что же ты думаешь? — надменно ответил папа. — Мы с моими друзьями из стаканов будем пить?!
Часть папашиного гонора ощущаю и я. Главная его история, которую он рассказывал в бесконечных его застольях со все возрастающей гордостью, называется «Не прыгнул». Мама с папой познакомились в Казани, где отпрыску ссыльных высокородных шляхтичей приглянулась миловидная татарочка. Я вижу, что мама с её смиренно-грациозными жестами, с крохотными ножками и ручками и маленькой мягкой попкой была тем магнитом, от которого невозможно отвернуть. Думаю, она точно оценила и папу, но возможность хоть какого-то полёта хотя бы куда-то увлекла и её. Скандал, естественно, был в обеих семьях: более неподходящей партии не могли представить ни те, ни другие. В результате папа умыкнул маму в прекрасный Ленинград, который, как далёкий рай, несомненно, сыграл свою манящую роль. Здесь папа загремел в армию и даже принимал участие в Пражских событиях 1968 года, о чем не любил вспоминать — любил рассказывать о другом. Суть в том, что с присущей ему лёгкостью он оказался в Ансамбле песни и пляски Западной группы войск, а затем — не без участия, видимо, влиятельных женщин — оказался в Питере в уже привилегированном, известном Ансамбле Балтийского флота. Вот, по-видимому, откуда моя тяга к флоту! Здесь он шикарно плясал в двадцать лет, был мастером чечётки, присядки и какого-то особенного прыжка с переворотом: из-за этого-то прыжка с переворотом он и пострадал: как всегда люди страдают за лучшее! Наступили суровые демократические времена — доходы на армию стали сокращаться, что, естественно, коснулось и плясок. Вместо старого художественного руководителя, отличного мужика, приехал, как говорил папа, какой-то очень умный еврей, с фамилией, кажется, Обрант; у него была задача, требующая именно еврейской твёрдости характера: из двух больших ансамблей, Балтийского и Северного, он должен был составить один маленький. Он сидел в зале и, сверкая окулярами, экзаменовал каждого. Папа, естественно, блеснул, особенно своим знаменитым прыжком. И тут вдруг еврей (разве такой должен быть руководитель флотского ансамбля?) проскрипел из зала:
— Будьте так добры, прыгните ещё один раз!
И тут папа, гордо выпрямившись, сказал фразу, которой потом гордился всю жизнь, но которая, с другой стороны, и поставила крест на его карьере. Он смерил шибздика взглядом (что было не трудно) и произнес:
— Турандаевский прыгает только один раз!
Разумеется, потрясённый и уязвлённый таким ответом, еврей не взял папашу в новый, комплексный ансамбль. Но зато потом тысячу раз я слышала эту гордую фразу в самых разных компаниях и даже, идя однажды от метро через парк, услышала из кустов под звон стаканов (стопок, естественно, мама ему больше не давала):
— Турандаевский прыгает только один раз!
Папа был открытый, но глупый. Мама скрытная, но умная. Надеюсь, что характер мой — от нее. Что, думаю, проявилось впервые четко в продолжении той истории с х...ястым мотоциклистом. После того страшного видения я стала просиживать за уроками день и ночь и стала получать фактически одни пятерки, а если и уходила куда-то, то обязательно говорила маме, куда и когда, и обязательно возвращалась с точностью до минуты. И все это было, в сущности, всего лишь страстной конспирацией моей сути — чтобы никак не догадались, а тем более не смогли доказать, что я все время думаю о том. Теперь, прожив двадцать девять лет, я могу сказать: правильно! Действительно, мне было чего во мне бояться и скрывать — тут чутьё не подвело. А тогда, в школе, всё вроде бы было отлично. Мои одноклассники — надо отметить во мне и светлые стороны — абсолютно меня не волновали. Я думала лишь о том. Это была тонкая, изнурительная игра с абсолютно извращёнными правилами. Каким наслаждением было выйти из парадной и пойти в другую сторону, даже не оглядываясь! Неделями даже не смотреть в ту сторону, где вход в парк украшала белёсая деревянная арка, сейчас исчезнувшая. Неделями не смотреть, не смотреть и вдруг по дороге в школу быстро обернуться и увидеть. Арку! И всё! Как колотилось сердце, как щемило... Сладко было идти с мамой за руку и с нотной папкой в другой и с абсолютным внешним спокойствием, но с колотящимся сердцем ждать, поведет меня мама к учительнице тем путём, откуда видно арку, или другим?
Читать дальше
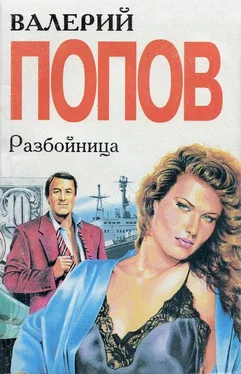

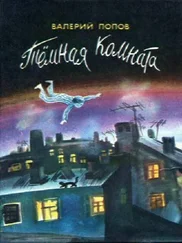
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
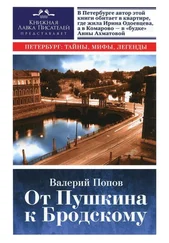
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)