— Алёна! Что с тобой? Ты так побледнела! — испуганно произносит мама, оглядывая совершенно пустую улицу. Она прекрасно понимает жуткую суть моего волнения, а детали... детали могут быть любыми — хотя бы вот это сломанное машиной дерево!
Да, круто вы меня замесили, Галия Ильгисовна! Спасибо вам!
И потом, уже лет в пятнадцать, я вдруг сказала себе: всё! Ты пойдешь туда! Естественно, я понимала, что тот рекордсмен-мотоциклист уже там не стоит... да и не надо там ему стоять!.. Пора! Конспирация была создана вполне достаточная: восемь классов без единой тройки. Сколько вранья я накрутила вокруг этого похода. И отчаяние мамы возрастало ещё и оттого, что враньём это было лишь по сути, а не по форме — по обстоятельствам действия всё было абсолютно безупречно. Сколько ж страсти кипит, если для создания лишь декораций, дымовой завесы стольких сил не жалко! — вот что с отчаянием понимала моя мама, и понимала, что от судьбы не уйдешь. Она была в отчаянии и от того, что по фактам абсолютно не в чём было меня уличать: я действительно шла помогать двум отстающим — сперва одному, потом... а, что дорога пролегала мимо, я не виновата... и не я же сделала их отстающими! Какая страшная страсть скрывается за столь тщательным, мощным алиби!
И моё сердце колотилось так же безумно, как, наверное, и мамино. И вот я прошла через то место — естественно, там никого не было, — тем более был ноябрь!
Вот вам моё детство. Поразительно и то, что в моём классе училась ещё одна точно такая же сексуальная отличница, Алка Горлицына, как говорили, из старинной дворянской семьи. В её ответах у доски было ещё больше страсти, чем в моих, и все, прежде всего учителя, прекрасно понимали, что в том, сколько Алла заучивает наизусть, проявляется совершенно другая страсть, отнюдь не к учёбе, но которую Алла пока что могла реализовать только так. Учителя просто боялись её вызывать. Против всех фамилий стояла уже колонка троек, двоек, четвёрок, а её клеточка все пустовала. И наконец, когда нельзя уж было оттягивать больше, её вызывали — и она красивыми прыжками неслась к доске. Это был смерч, обвал быстрой отточенной речи, безумных переливов голоса от хриплого к звонкому, сияния огромных карих глаз! Все чувствовали всё, хотя и не называли. В классе была полная тишина, испуг. Самые закоренелые тупые хулиганы умолкали, чуя что-то гораздо более мощное, чем их хулиганство. Учителя боялись её перебить — это было всё равно что броситься под поезд. Лишь самые смелые из них отваживались робко приподнять руку: мол, все, спасибо, достаточно, отлично, — но она не обращала внимания на эти жесты, продолжала, сияя, говорить, потрясая, пугая памятью, блеском, красотой, неудержимостью — и явно пугая всех неотвратимостью какой-то трагедии. Однако страсть её была такой сильной, что она сумела спрятать её очень глубоко и остаться отличницей навсегда: она с медалью окончила школу, потом университет и вскоре была уже научным сотрудником исторического архива, участвуя мысленно в оргиях давних лет...
У меня срыв произошел где-то в девятом классе. Наш 9-й «б» был на самом верху школы и — страсть находит ходы — прямо напротив больших, изогнутых «модерных» окон нашей квартиры, — и я часто во время урока во вторую смену наблюдала, как папа подходит к маме, обнимает её и начинает что-то говорить, вроде как прося прощения за что-то вчерашнее, мама возмущенно, но все слабей и слабей вырывается — не так-то легко вырваться из медвежьих лап пьяного отца. Мама даже показывает на окна школы, но все слабее и неуверенней. Их движения все медленней, намагниченней, снова взгляд мамы в окно, но уже абсолютно улетевший, невидящий, отрешённый... и вот они плавно опускаются за линию подоконника...
— Турандаевская? Что с тобой? На галок засмотрелась? — этот голос возвращает меня очень издалека...
Когда окно стало «табу», мой безумный организм тут же выдумал другое. Однажды, «улетев», я не успела написать контрольную по математике, хотя знала все... Я вынырнула из неги от скрипучего голоса математика, поглядела на часики... осталось восемь минут, можно ещё успеть... Но не надо! — пропел какой-то сладкий безумный голос. Я сидела, внутренне сжавшись, что-то находило, невероятно острое, поднималось неудержимо снизу... в последний момент я стискивала гладкие ноги, слегка сгибалась вперёд, сжимала зубы — и сладкая судорога потрясала меня насквозь от волос до кончиков ног. Потом минуту я приходила в себя, потом блаженным, но осторожным взглядом обводила класс... Медленно выплывали звуки. Я шла с чистым листом, сдавала. Никогда раньше каждый шаг не таил в себе такую сладость! И так стало происходить на каждой контрольной — к концу обязательно поднимались сладкие судороги, но для этого требовался абсолютно чистый, не запятнанный никаким ответом тетрадный лист, который и получал соответствующую награду... чувство отчаяния, почти гибели было почему-то необходимо, без него не получалось...
Читать дальше
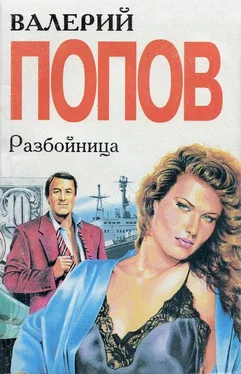

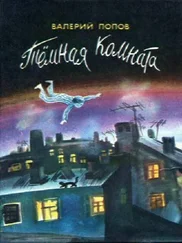
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
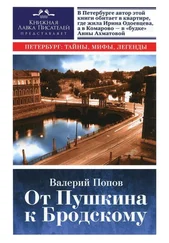
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)