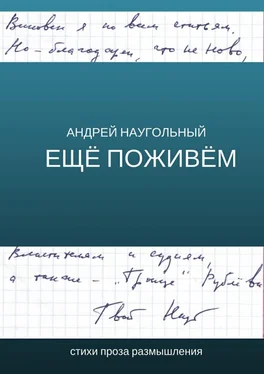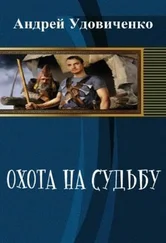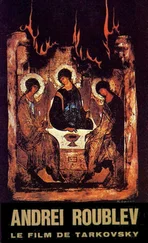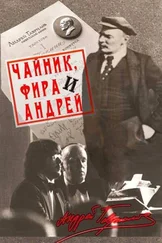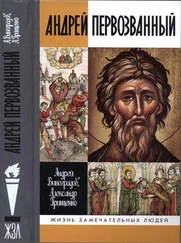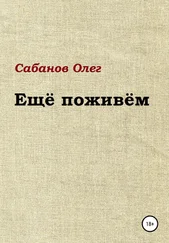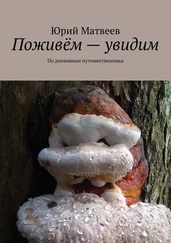«Буди, буди». Всё новое — это смертельный фантом, вырвавшийся из недр бытия и быта. И вновь Маяковский: «Я, воспевающий машину и Англию, /может быть, просто, /в самом обыкновенном Евангелии /тринадцатый апостол». Так пророчит Поэт о возвращении в мир пророков и истин, даже больше — он и сам, предполагаю, был когда-то на Тайной вечере, сам откуда-то из пушкинской строки — апостол, пророк, «сверх-я», книга его, тогда его книга — пятое Евангелие, Евангелие от Иуды, оставшегося в живых навсегда, Иуды, пережившего смерть своего Бога, Иуды, заразившего мир натиском и азартом — как сказал один из французских поэтов — «я революционизирую». Но это Маяковский, а Островитянин мог бы сказать про себя: «я эволюционизирую». Если Бог умер, значит, торжествовал Иуда и царствие его. И, стало быть, бунт — норма, а смерть — рождение, ожидаемое с необыкновенным волнением. И это не кощунство.
Это богоискательство, кормчая звезда для русского интеллигента, испытанный способ жить красиво, постоянно испытывая на прочность корни — устои интеллектуальных ересей и традиций. Тут-то Островитянин и обрёл себя, бесспорно, он — Поэт, принадлежащий к мыслящему сословию. Ему и Маяковский во благо, но не революций и переворотов жаждет, а духовного перерождения мира и человека. Он из тех, кто ищет выход, не желая оставаться на мусорной свалке Истории и Судьбы. Странная «Молитва». Но молодое вино в новые меха…
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
А. Пушкин
Ты хочешь проклинать, рыдая и стеня,
Бичей подыскивать к закону.
Поэт, остановись! Не призывай меня, —
Зови из бездны Тизифону.
Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.
Когда, бесчинствами обиженный опять,
В груди заслышишь зов к рыданью, —
Я ради мук твоих не стану изменять
Свободы вечному призванью…
А. Фет
Да, это Фет. Не Островитянин. Но общее у них есть, оно в призвании, которым так дорожит Фет, и от которого достаточно легко отрекается автор «Горсти камней». Почти легко, почти отрекается. Настораживает другое. Возьмём стихотворение, исключающее служение Музам (несерьёзно!) и, естественно, исключающее самого любимца муз. Иное — Фет, с этим поэтом у Островитянина одна кровеносная система, просто сам он об этом не знает или делает вид, что Фет ему безразличен. Островитянин скрытный поэт, герметичный, несмотря на искренность, переходящую в исповедальность.
Аполлон Григорьев писал о Фете, близком друге и искусителе. Так Фета, по их отношениям с Григорьевым, воспринимал А. Блок: «Я не видел другого человека, которого бы так душила тоска… Со способностью творения в нём росло равнодушие. Равнодушие ко всему, кроме способности творить». Равнодушие к жизни, которое выглядит, как просто жизнь.
Не так у Островитянина, он даже как будто не вспоминает о творчестве, т.е., его книга начинается с эпилога, стихотворение «Жизни маленькая щепотка» — это финал, где нет места фантазиям Творца. Всё буднично. И тут мне вспомнился (да простят меня хитроумные боги литературы!) Михаил Александрович Шолохов, а точнее то, как он закончил свою эпопею: «Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына… Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока ещё роднило его с землёй и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром». Да, вот оно, холодное светило действительной жизни. И добавить нечего.
Но Островитянин — поэт. И я берусь утверждать, что он поэт истинный, многогранный и замысловатый, многое доступно его лире… Даже игра в бисер, как, например, сонеты (книга «Тень жизни»).
Он — романтик, которому опротивел собственный энтузиазм, встал поперёк горла. Вот и выходит, как у Булгакова в «Белой гвардии», где муж Елены Прекрасной, жутковатый Тальберг, твердит барабанно, выбираясь из передряг и присматриваясь, где теплее: «Оперетка, оперетка!». Заманчиво, но нудно, где вместо ожидаемого куша с наслаждением разжёвывается конфликт между поэзией и правдой жизни. То есть, пшик — о чём разговор? Другие-то стихи прекрасны, но заел Островитянина избыточный нигилизм: всё худо, сам полное ничтожество, да и зачем это ему? Возможно, это христианский подход. «Аскетические опыты» Святителя Игнатия Брянчанинова написаны именно здесь, у нас, на Севере… Не отсюда ли такое уничижение? Жизнь — свалка, поэт — ничтожество. Возможно, пушкинский виток, классическая ветка. А может, как у Державина: «Я царь, я раб»? Всё возможно, только у Островитянина не царь, а дервиш. Хороший дервиш, белый дервиш, посвящённый, значит. И, значит, тайн не разгласит, но зато пророчествовать будет, и заклятие снимет, и душу отмолить сумеет. Вот она, скрижаль. Дервиш, отказавшийся наотрез от соблазнов буржуазного реализма. Положение обязывает, да и Бог не дозволяет. Значит, Бог существует? Где он? Как — где? У поэтов, в сфере идеала. У Фета: «Вращенье цветочных спиралей, благоуханная свежесть, бессмертная весна». Есть, живут и ликуют подобные мотивы и у Островитянина: «Окошком настежь, пристальное око /Воткну во тьму, чтоб вызнать и постичь, /И в зыбком и причудливом барокко /Весенней ночи путается дичь, /Бескрылая, крылатая, любая — /И прянет, и пугается, и ждёт /Меж нежных пут обманчивого рая /И тяжких ков, срывающих полёт /На полпути…».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу