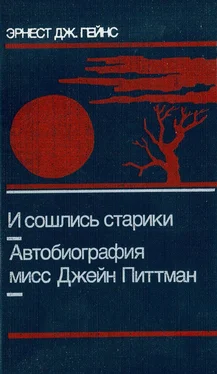— Я на твоего отца никакого заклятия не накладывала, — говорю. — А только сказала, что мы во всей округе услышим, когда за ним приедет адская колесница, — так он будет вопить. И услышим! Я услышу, если господь бог не призовет меня раньше. Другие, кто делал столько зла, как твой отец, вопили в последнюю минуту. И он будет вопить. Да, Аделина, будет. Но заклятие тут ни при чем. Это ад его призывает.
— Он бедный и глупый человек, Джейн.
— Не надо было ему поднимать руку на моего сына.
— Вы ненавидите меня, Джейн?
— Да нет, — говорю. — Даже к твоему отцу я не питаю ненависти. Но день расплаты придет.
— Расплачиваюсь-то я. Страдаю я, — сказала Аделина.
— Ты еще не знаешь, что такое настоящее страдание, Аделина.
— Я же показывала вам рубцы на спине.
— Но я не могу показать тебе рубцы на моем сердце, — говорю.
— Бедняжка Джейн, — сказала Аделина.
Клюво прожил еще десять лет. Умер он как раз перед наводнением двенадцатого года. Кристина уже сбежала из дома. Она путалась со всеми мужчинами на нашей реке, белыми и черными. И получала столько инжира, орехов и мускатного винограда от своих ухажеров, что и не сосчитать. А потом уехала с коммивояжером из Сент-Франсис-вилла в его фургоне. Он торговал сковородками и кастрюлями и еще точил ножи и ножницы. Вот Кристина и уехала с ним как-то вечером в воскресенье. А бедная Аделина так и осталась дома. Теперь Альбер Клюво уже не спал с дочерью в одной кровати — когда Кристина сбежала с коммивояжером, Аделина сказала, чтобы он перебрался в другую комнату. Не то она тоже сбежит. Он вернулся в свою прежнюю комнату, и Аделина осталась ухаживать за ним. Они вдвоем остались — сыновья сбежали, как и Кристина.
Альбер Клюво умирал два дня, и бедная Аделина чуть с ума не сошла. За полмили было слышно, как вопил Клюво. Умер он в воскресенье. Джулс Пэтин заглянул ко мне и сказал, что Клюво совсем плох. Я спросила, откуда он это знает. А он ответил, что слышал, как Клюво вопит, и спросил у одного кэджена, что случилось, и кэджен сказал, что Клюво при смерти.
Я всегда думала, что хочу услышать, как вопит Клюво. Я твердила это себе с тех самых пор, как он убил Неда. Но с тех пор прошло много времени, и мне вдруг стало жалко Клюво, а особенно Аделину. Но все остальные слышали его вопли. Люди и днем и ночью проходили мимо его дома, чтобы послушать, как он кричит. Доктор приехал и уехал, а он все вопил. Аделина сидела возле него и вытирала ему лицо мокрым полотенцем, а он все вопил. Перед самой смертью он оттолкнул Аделину и соскочил с кровати. Никто и подумать не мог, что у него хватит на это сил. Он поднял руки так, будто держит ружье, и закричал:
— Я убью его, я убью его, я убью его.
Потом сделал два шага и упал. Закрыл голову руками, и вопил, и вопил, чтобы Аделина остановила коней. Аделина встала на колени около него. У нее на руках он и умер.
Я была знакома с тетушкой Хэтти Джорден задолго до того, как переехала в Семсон. Она была тогда там кухаркой, стряпала у Семсонов еще до войны между конфедератами и Севером. Когда она состарилась — ей уж было за семьдесят, когда мы познакомились, — они дали ей лошадь и бричку, чтоб не ходить пешком. Когда я жила у реки, она раза два в неделю проезжала мимо моего дома. После смерти Альбера Клюво я как-то сказала ей, что хотела бы уехать из этих мест. А она спросила, почему бы мне не переехать в Семсон. Я сказала, что семь-восемь миль — это не переезд. А мне хотелось бы уехать подальше, чтобы легче было не вспоминать. Но она ответила, что я хоть за сто миль уеду, а вспоминать все равно буду, ведь воспоминания — это не место, воспоминания-то, они в нас самих, и еще сказала, что я же хочу жить поближе к могиле Неда, чтоб убирать ее цветами. Я подумала, подумала и сказала, что она верно говорит.
Так я и поселилась в Семсоне. Я приехала туда под вечер и попросила Поля Семсона, чтобы он выделил мне дом. Поль Семсон был отцом Роберта, который теперь там хозяин.
— Да уж очень ты тощая, — сказал он. — Откуда мне знать, как ты справишься с работой.
Я говорю, что уже пятьдесят лет работаю, и ничего.
— Так ты, наверное, уже приустала?
— Меня еще на пятьдесят хватит, — говорю.
— Можешь поселиться рядом с дядюшкой Джиллом и тетушкой Сарой, — говорит он. — Но перебираться будешь сама.
— Переберусь, — ответила я.
Я попросила фургон в поселке у реки и переехала без посторонней помощи. Два раза съездила, но управилась сама. Было это весной, потому что люди пахали и рыхлили землю мотыгами. Баз Джонсон был водовозом. Его мула звали Алмаз. Он возил воду в огромной бочке с затычкой. Раз как-то затычку выбило, и вся вода вытекла. Работники в поле чуть его не убили, когда он подъехал с пустой бочкой. Каждый день он ездил в поля три раза: утром, около половины десятого, в обед и вечером. В двенадцать, во вторую поездку, он привозил обед в ведерках. Почти у всех были маленькие ведерки. Баз Джонсон ехал в поле, а его повозка была вся уставлена блестящими ведерками — ну точь-в-точь старьевщик, который старое на новое меняет. Если он опаздывал, то пускал Алмаза рысью, а ведерки бились, и такой звон стоял, что с другого конца поля слышно. На повозке стояло тридцать-сорок, а остальные он складывал в седельную сумку и вешал ее на Алмаза. Люди метили свои ведерки цветными лоскутками — красные, желтые, голубые. А то писали на крышке свои буквы. А Тоби Льюис надел на ручку своего котелка кольцо, которое вдевают в нос хрякам. Его так и прозвали — Тоби Свиное Кольцо. Когда я перебралась в Семсон, его только так и называли. Но работника лучше его на плантации не было. Никто там не мог нарубить и погрузить столько сахарного тростника. Каждый год находился сумасшедший, который пытался обойти его, и каждый раз Тоби совсем его загонял. Как-то решил потягаться с ним в рубке тростника Хок Браун, так Тоби чуть не доконал Хока. А Джо Саймон попробовал состязаться с ним в погрузке, и когда Тоби с ним разделался, так Джо разве что мог травинку поднять, чтоб пожевать. И теперь ему приходилось работать с женщинами, весной не плугом землю пахать, а ковырять мотыгой.
Читать дальше