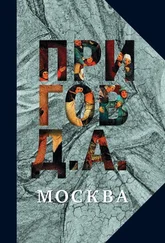Всем, видимо, памятен древне-русско-еврейский анекдот (очевидно, еще времен черты оседлости). Вот он. Еврей (извините за подобное открытое и рискованное обозначение-называние, но так, по всей видимости, и было на самом деле) входит в поезд, обнаруживает там другого еврея и с подозрительностью спрашивает:
— Куда едете?
— В Бердичев. — отвечает тот.
— Ах, ах, ах, — запричитал первый, — зачем же вы меня обманываете? Зачем вы говорите, что едете в Бердичев, когда вы едете в Бердичев?!
Нехитрая история. Ну, ее все знают. Нехитры и подозрения вопрошающего. Но возникает вопрос — а в тот ли Бердичев, о котором спрашивают, едет другой? Даже если он географически, топографически, градостроительно, экономически и этнически совпадает почти до неразличимости с известным нам Бердичевом (во всяком случае, предполагаемым), то все равно, культурологически и эпистемологически тот ли это Бердичев? Действительно, почему бы спрошенному не назвать какой-нибудь Козельск, чтобы всем стало ясно, что он едет в Бердичев. В тот Бердичев, о котором его вопрошают. Нет ведь, он отвечает: в Бердичев. А действительно ли ответ «Козельск-Бердичев» более истинен, чем ответ «Бердичев-Бердичев», и более искренен? Почему? Нипочему другому, кроме того, что он находится в пределах данной конвенции искренности и искреннего говорения.
Должно заметить, во всех наших разговорах присутствует Третий, Другой — то есть язык, культура, история, обиход и навыки. Ну, это все давно уже банальности. Не говоря уж о таких глобальностях, как единство общеантропологических оснований. На космос мы даже и не замахиваемся и не посягаем. Так что у искренности и маневра-то почти не остается — одна интенция искренности. Но несомненно угадываемая и даже искренне же полагаемая в основу восприятия высказывания и его понимания.
Вот и наш вопрошающий-интервьюер (я уже имею в виду автора данной книги) поставлен перед проблемой понимания и различения Козельска-Бердичева и Бердичева-Бердичева. А уж читателю и вовсе придется пробираться через дебри самого интервьюерского Козельска-Бердичева и Бердичева-Бердичева, что в сумме с ответами вопрошаемого дает многочисленные варианты. К примеру, Козельск-Бердичев-Козельск-Бердичев, или же Козельск-Бердичев-Бердичев-Бердичев, или же Бердичев-Бердичев-Бердичев-Бердичев, Бердичев-Бердичев-Козельск-Бердичев. Ну, да это ладно. А вопрошаемый, в свою очередь (неважно, понимает ли он это со всей ясностью, отдает ли себе в том отчет, рефлексирует ли по этому поводу или искренне верит в свою искренность), стоит перед проблемой не только искренности своего высказывания, но и адекватности понимания ее собеседником. Вот ведь как все сложно. Однако же, и вполне возможно к пониманию. Можно представить себе все это и гораздо проще — как мгновенно и сразу просто прожигающее неимоверной искренностью интенции высказывания. Не знаю, наверное, можно. Почему нельзя? Все можно. Но я здесь все-таки о проблемах, а не о высоких озарениях художников, провидцев и всякого рода испытателей истины, я не о внекультурных трансгрессиях.
Я о том Третьем или Другом, образующем среду и ситуацию понимания, в ином случае грозящую выродиться в полувоспринимаемое нагромождение знаков либо в нескончаемый редукционный ряд Бердичев-Бердичев-Бердичев-Бердичев-Бердичев-Бердичев и т. д.
Да и вообще, продолжая исполненное терминами и терминологически-исполняемое рассуждение, в случае с литературными текстами и наиболее явно в случае с текстами романного размера и жанра, мы имеем дело с некими эпистемологическими моделями и социально-адаптивными схемами, считываемыми через всякого рода там красоты и психологизмы. То же самое, в несколько редуцируемом виде, происходит и с образами и имиджами писателей, преподносимыми ими или же их собеседниками в виде искренних повествований о самих себе или о них. Опять-таки здесь мы не оговариваем и не различаем случаи отрефлексированного поведения, жеста, стратегии или же культурно-невменяемой идентификации с текстом и поведением. Но в наше время постепенного ухода литературы из актуальной зоны поп-геройства и утраты значимой социокультурной позиции, испаряется имиджевая и культурно-поведенческая составляющая образа писателя. Вполне и можно поверить в его искренность, так как она мало уже кому нужна и мало кого волнует, как та же искренность столяра или уборщицы. Я нисколько не хочу обидеть или оскорбить последних, но искренность не входит в состав их социокультурного служения. Как восклицал незабываемый Иван Сергеевич Тургенев: О, вы, искренние люди, которым скрывать решительно нечего! Или опять-таки, как в том анекдоте.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу