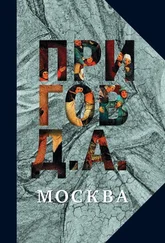В наше время попытки (и причем многочисленные) создать некий альтернативный единый способ и язык описания (или использовать какой-либо из старых), чтобы накрыть эту действительность, оборачиваются воспроизведением немыслимой жесткости доминирующего языка, все неизбежно искривляется по силовым линиям, заданным доминирующим языком, и все новые ложатся еще одним слоем на вышеназванную пленку.
Апелляция же к неким общим, неясно артикулируемым глубинным пластам человеческого бытия оборачивается простым скольжением по поверхности этой пленки. Повторяю, что я говорю о нашем конкретном времени и о сознании культурном, но не религиозном или эзотерическом.
Посему мне представляется, что позиция Сорокина (как и всего направления в искусстве, к которому он тяготеет) — понимание свободы или возможности свободы как основного пафоса культуры сего момента — является истинно, если не единственно, гуманистической. И неложность этого откровения навсегда останется и будет прочитываться, как, собственно, было со всеми произведениями искусства, которые остаются живыми для любых других эпох, идей, устремлений. Именно это и отличает художника от эпигона, пытающегося воспроизвести ситуацию истины предыдущих времен, в то время как живая кровь современности бьет уже в другом месте.
Что же касается конкретного обличья, выхода на люди — подобная художественная концепция выявляет в их онтологическом значении такие элементы бытия, как шок, граница, скачок, в отличие от самопроявления живой истины или живой вещи (Достоевский), или пространства жизни и описания (Чехов).
Живость и искренность читательского переживания этих самых швов, границ и скачков и служит свидетельством истинности авторской позиции и несомненной его одаренности.
Присмотритесь к Бунимовичу, но не в этом смысле [122] Опубликовано в: Театр. 1992. № 10.
1992
Когда я подумал, что бы мне хотелось узнать о себе из чужих писаний, предуведомлений к моим, скажем, стихам, — стало мне вдруг абсолютно ясно (как видно во все стороны света), что хотелось бы знать практически все, что и значит: практически ничего.
Что за новость узнать, что твои стихи нравятся (или не нравятся), — это и заранее ясно. Человек не уселся бы писать без видимых побудительных причин. Даже если таковой является прямой и прекрасный долг дружбы — что может быть приятнее, милее и более интригующe, чем стихи знакомого человека, приятеля, друга? Во всей полноте это узнается только с возрастом, когда обнаруживаешь, что все прочитать просто не в силах и надо делать выбор, и ты с радостью останавливаешься на писаниях своих друзей, исполненных для тебя множеством иных (прочими зачастую не просто прочитываемых и не могущих быть ими прочитанными никаким иным способом, кроме как через обожание друзей) внетекстовых измерений, наполняющих душу тем трепетом жизни, который нынешнее искусство в данное конкретное время при нынешнем коллапсирующем культурном бытии и восприятии воспроизвести просто не в силах.
Так, дальше.
Узнать же то, кто на кого повлиял, кто на кого похож, — уж и вовсе не представляет злостного интереса: все похожи на всех. Барабан вовсе неотличим от слона, так как оба обтянуты кожей. Говорить о приращении словаря? Так ведь нынче все любо: и сознательный аскетизм советско-идеологической фразеологии, и стилизаторские пиршества, и как бы натуральная, животно-нерефлексируемая державинско-пушкинско-пастернаковско-мандельштамовская мощь — лишь бы было сделано с культурной вменяемостью.
Нет, я о душе пекусь! о душе! о ней единой! о времени! о душе и времени! о человеке! о душе, о времени и о человеке — таком вот совместном существе!
Так, дальше.
Вот тут среди нас идут бесчисленные споры (и я, и я — грешен, грешен, встревал в них зачастую, может быть, по причине скрытых — а то почему же скрытых?! — открытых, открытых комплексов, претензий и амбиций — грешен!), так вот, идут бесчисленные споры (а о чем сейчас споры не идут?!) о конце литературы (о конце коммунизма и конце истории, о конце света, о конце конца — это уже о постмодернизме), о безумном, безутешном и непереносимом крахе образа Поэта как Учителя-Пророка. (Господи, может быть, хоть этот крах обойдется без крови, костей и праха! Просто кончится, и все, войдет и скажет с застенчивой улыбкой: вот, я кончился! — А-а-а, ты кончился, как мило! — Да вот, извините, кончился! — Ну, ну, спасибо за все, не забывай нас! — Уж как вас, подлецов, забудешь! — Вот-вот, мы и говорим, не поминай лихом!)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу