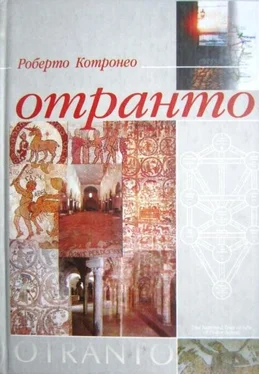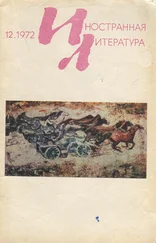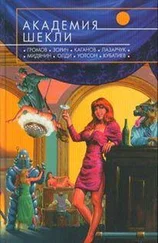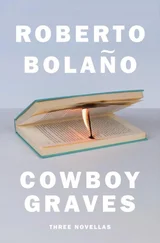Мензурка разбилась вдребезги, доктор взглянул на свой палец и поморщился то ли от боли, то ли от смущения. Я видела, что он в замешательстве, я уже достаточно научилась его понимать и знала, насколько он уверен в себе на людях и насколько ему не хватает выдержки, когда он попадает в ситуацию, затрудняющую общение.
Я знала, с кем говорю. Знала, что органист — его отец. Знала, какой силой внушения обладают совпадения. А он удивился и испугался, как ребенок, и на какое-то время мы поменялись ролями: теперь он просил у меня помощи, не осмеливаясь, однако, в глубине души себе это позволить. На самом деле я ошибалась: то был не страх, а тоска. И у меня закралось сомнение: а вдруг он воспринял это как игру с моей стороны? Вдруг он заподозрил, что я хочу убедить его в своей правоте при помощи аргументов из его личной жизни? Но как я могла умолчать о той ночи и о двух днях, что я проспала без всяких лекарств?
Мензурка разбилась вдребезги, и он начал над собой подтрунивать: «Такого со мной раньше не бывало», — сказал он, смеясь, и прибавил: «Не сумел дозировать силу рук. Надо сказать, что в детстве я тоже играл на органе, и отец учил меня, что клавиш надо касаться легко. С какой силой ни ударишь по клавише — звук останется тем же. Я разве не говорил вам, что мой отец был органистом кафедрального собора? Ах да, не говорил. В органе меня всегда поражала одна вещь: звук не получается сразу. Вы нажимаете на клавишу, и звук путешествует по трубам, и только потом его можно услышать. Звук всегда отстает, особенно в быстром темпе: вы играете, а музыка звучит с опозданием больше чем на миг. Много раз, разговаривая с вами, я думал об этой особенности механики. Вы мне что-то рассказывали, а я понимал с опозданием. Звук, значение ваших слов, доходили до меня не раньше, чем пройдут все трубы моей памяти и будут переведены на язык моего опыта. Поначалу так не было. Поначалу я делал свое дело, ведь я врач, и где бы я ни родился, здесь или в другом месте, это дела не меняет. Потом что-то начало меняться внутри меня. И с тех пор ваши слова стали во мне соотноситься с чем-то более глубоким, личным. Это происходило помимо моей воли. Каждый раз вы рассказывали, а я словно возвращался назад. Греческий, я слышал, как вы говорили по-гречески, мои дед и бабка разговаривали на этом языке, его знал отец. Вы произносили фразы, которых я не понимал, но они отзывались в моей памяти родным звуком. Ваше растерянное лицо и ясные глаза заставили меня признать, что во многих из нас есть что-то необъяснимо чужое, непохожее. Такому рационалисту, как я, нелегко было все это осмыслить. Как я могу теперь вас лечить, если я для себя решил, что рассудок ваш в порядке, а психику не изменили абсолютно здоровые страхи и видения? Как только я начинал понимать, что как медик, как психиатр способен разгадать тайну, вы отнимали у меня эту тайну. Сколько раз я просил вас рассказывать мне абсолютно все, что вас беспокоит? И каждый раз у меня возникало ощущение, что вы боитесь продолжать, двигаться вперед в рассказе».
Он слишком много говорил, но я не пыталась его остановить. Он не понимал, что, если и он сдался, то у меня не остается больше ни единой зацепки, потому что я надеялась только на него. Он вызывал меня на откровенность, а я пряталась и отступала, все больше и больше опасаясь этого разговора и пугаясь своего открытия, кто был его отец. Я еще не знала, что за этим последует, и теперь мне становится смешно при мысли о том, как он мне об этом сообщил, нехотя, словно стыдясь. Он отвернулся, закрыл глаза, и всем своим видом показывал, что едва сдерживается. Потом спросил, не хочу ли я пройтись немного, чего с ним никогда не бывало. Я глядела на него с тревогой, потому что ко мне пришло чувство настоящего одиночества: теперь я превратилась в пациентку, вынужденную спасать своего психоаналитика от его собственных неврозов. Я ответила, что прогуляюсь с ним охотно, и ждала, что же он еще мне поведает. По его тону было ясно, что он хотел бы рассказать все, но стеснялся, годами уверенный, что некоторых вещей просто не может быть. Я согласилась, хотя и знала, что это неосторожно Мне хотелось на одном из бастионов повстречать Ахмеда и понять, видел ли его мой спокойный и рассудительный доктор и говорил ли с ним о чем-нибудь. Все это проносилось в моей голове, пока я, слегка пошатываясь, спускалась по каменным ступенькам.
«Я долго видел вас, как сквозь стекло И стекло это становилось все тоньше и прозрачнее. Сначала оно было словно затерто наждаком, и я различал только общую форму ваших рассказов, не улавливая деталей. Потом я начал видеть все лучше и лучше, и, наконец, совсем хорошо. Но стекло присутствует, Велли, я это чувствую, и оно мешает мне идти дальше. Правда, теперь оно стало таким тонким, что может разбиться от легкого прикосновения моих пальцев, и наши миры соприкоснутся. Я перестану быть просто наблюдателем и войду туда, где находитесь вы со всеми вашими призраками. Я боюсь только подойти не с той стороны. Надеюсь, вы меня поймете. Куда пойдем?».
Читать дальше