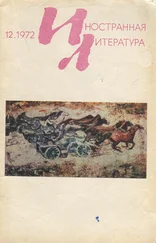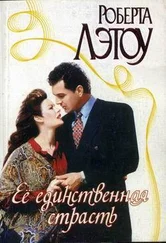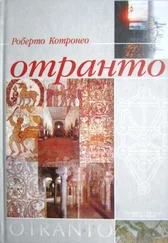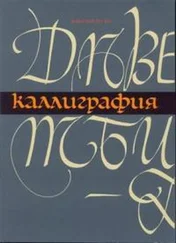Но я отвлекся. Я записал эту Мазурку вместе с другими, со Скерцо си-бемоль-минор и Балладой соль-минор, Первой, самой знаменитой. В Первой Балладе так мало осознания себя, что она обезоруживает. Я бы сравнил ее с той порой жизни, в которой сознают лишь собственное очарование и безудержно радуются ему. Когда мне было двадцать, я этого не понимал. В тридцать я отдавал себе отчет в том, какие чувства я могу возбудить в окружающих, и полагал, что это единственный способ завоевать мир. Я его не завоевал, и ныне пребываю здесь, в альпийской долине, между Францией и Италией, и вспоминаю тот концерт в Зальцбурге. Не знаю почему, но именно там я понял, что пометка «a mezzavoce» смогла открыть мне мир. Достаточно было сосредоточиться и не оттолкнуть от себя крошечную крупицу безумия, способную впитать твои мысли. Она закрывает все пути, как в кошмаре, и оставляет лишь один, по которому ты можешь выбраться: путь фа-минора.
Развитие Баллады импровизационно. Думаю, что Шопен отталкивался от одной из тех импровизаций, которые он играл для друзей и гостей в парижских домах, где можно было найти фортепиано. Быть может, начальное ядро мелодии было найдено задолго до этого, намеком, в одном лишь звуке. В одном из тех, что постоянно возвращаются к Теме с небольшими изменениями. И я впервые понял, что в этой пьесе, в этих страницах — весь сыгранный мною в жизни Шопен. Там есть мотивы, перекликающиеся с Рондо, Фантазией-Экспромтом, Этюдами, Баркаролой, Вариациями, Ноктюрнами. Настоящая summamusica [7] Summamusicae (лат.) — высшая ступень музыки, ее квинтэссенция.
?. Я, смущавший консерваторских профессоров, играя Листа с первого прочтения без видимых трудностей, слывший виртуозом бесконечных оваций (помню одну тридцатипятиминутную овацию в Москве после исполнения си-бемоль-мажорной сонаты Прокофьева), перед лицом прозрачной линеарности этой Баллады демонстрировал типичное нахальство молодого дарования. В первый раз я записал ее на пластинку в семьдесят восемь оборотов в 1946 году, вместе с Баркаролой, Балладой соль-минор, несколькими Вальсами и тремя Мазурками. Диск должен был называться «Recital Romantico». He далее как вчера мой прилежный господин из студии звукозаписи, выказывая поистине энциклопедические музыкальные познания, с торжеством объявил мне, что нашел пленку с этой записью. «Она считалась потерянной!» — твердил он мне с той дозированной аффектацией, которая отличает гамбуржцев. Он планировал сделать из этой записи компакт диск: «Исторический!» Полагаю, что если бы он откопал и остальные пленки того периода, то мог бы неплохо заработать. Я не ответил ему сразу; мысленно я вернулся к исполнению Четвертой Баллады. Я записывал ее трижды и стер второй вариант. В третий раз получилось лучше, но неожиданный взрыв непогоды чуть-чуть изменил звучание фортепиано (по крайней мере, мне так показалось). Звукооператоры, привыкшие слушать звук через наушники, рычажки и цифры, моего мнения не разделяли, утверждая, что нет никакой разницы. Они глядели на меня с неодобрением: я был тогда молод и вовсе не знаменит. Нынче те же самые техники нашли бы великими все мои капризы и с гордостью рассказывали бы, как пришлось записывать еще один раз, потому что маэстро не был доволен качеством звука, маэстро показалось, что Стейнвей звучит вязко, будто бы ноты недостаточно чисты. Но в тот день, в каждом из трех случаев, я победил. Я сыграл Балладу фа-минор, как если бы это был Брамс: с некоторой неуверенностью и тенью холодной меланхолии. Зато завершил ее настоящим Prestoconfuoco, технически совершенным и эмоционально пустым. Может, я был еще не готов к этой музыке. Музыкальные инструменты безгранично коварны: когда ты молод и обладаешь пианистической техникой, позволяющей тебе играть все, что хочется, у тебя нет еще зрелости для настоящей интерпретации. Когда же ты этой зрелости достигаешь, то обнаруживаешь, что пальцы уже не слушаются так, как в молодости. И только критики способны верить в то, что восьмидесятилетний может играть с юношеской эластичностью и господством над инструментом.
Вспоминаю Владимира Горовица. Взрыв популярности у него пришелся на последний период жизни. Меня поразил один его московский концерт, транслировавшийся по Интервидению. Это был редкий случай, когда я провел перед экраном дольше пяти минут. Он играл пьесы светские, острые, играл безо всякой интроспекции. Горовиц не менялся, его фортепиано послушно шло за каждым изгибом мысли, его любимым Листом был Лист «Венского карнавала», любимым Шопеном — Шопен Мазурок, но его настоящей стихией были Этюды Скрябина. Все это вещи, которые я никогда не записывал. Он играл так, будто снова стал ребенком. Мне пришел на ум дедушка по материнской линии, ухаживавший в свои девяносто с лишним лет за девушками не старше двадцати. И делал это всерьез, а вовсе не смеха ради. Он очень старался выглядеть моложе своих лет, и дома без конца становился мишенью для шуток. Помню, что он все время просил меня сыграть ему «Грезы» Шумана, пьесу, которую с тех пор я не играл ни разу и которую я услышал под пальцами Горовица на том концерте. Потрясенные русские плакали, а я спрашивал себя, почему старик Горовиц не сыграл еще Дебюсси, чтобы мы узнали, как можно играть в таком почтенном возрасте. Какое там! Мы слушаем «Грезы» в исполнении безусых мальчишек, чванливых и заносчивых — и все теряется. Наверное, я тоже был таким, когда записывал «Recital». Я тогда в первый раз приехал в Гамбург, и он показался мне фантастическим городом. Студии звукозаписи были технически великолепны, но дышалось в послевоенной Германии тяжело. Тяжесть была конкретной: повсюду чувствовалось усилие сбросить с себя кошмар нацистской трагедии. Скорее — срабатывал кантианский императив, не оставлявший возможности колебаться в выборе способа или пути для выхода. В конце концов, это состояние определили словом, взятым из терминологии психоанализа, — отстранение. И именно в этот момент возникло желание снова начать колесить по Европе: эйфория заслоняла собой пепел, по которому нам суждено было бродить еще годы и годы.
Читать дальше