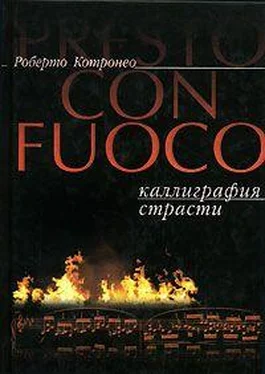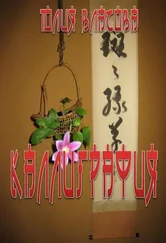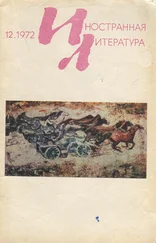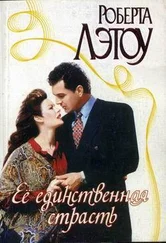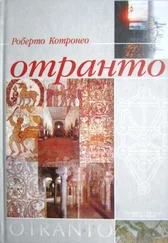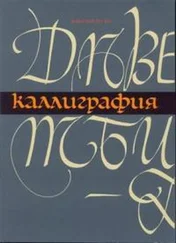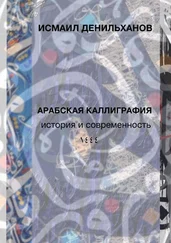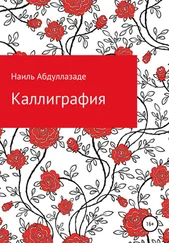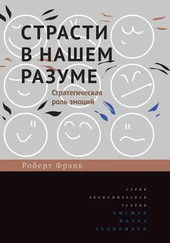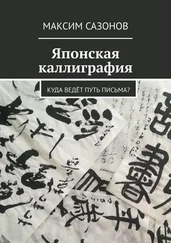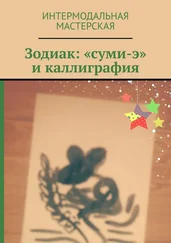В 1935 году, в пятнадцать лет, я получил свой первый диплом. Я был похож на тех девчушек, что слишком рано, не превратившись еще в женщин, стали заниматься любовью, и потому всю жизнь смотрят на мужчин с похотливым выражением, ибо секс взял их в плен и не дает больше ни о чем думать. Они приникают к тебе, задыхаясь, глядя на тебя до самого конца широко распахнутыми глазами, словно хотят найти в твоих глазах причину своего неистовства, словно надеются обрести в тебе освобождение от этого плена. То же самое произошло со мной. Фортепиано перевернуло мою жизнь, взяв меня рано, когда мышцы мои были совсем детскими, руки тонкими и хрупкими; они терялись на клавиатуре, которую глаза еще не могли охватить целиком. Фортепиано, этот жестокий майевт [1] Майевтика — особая философская техника диалога, заключающаяся в умении правильно задавать вопросы и, подобно Сократу, терпеливо выслушивать ответы. Здесь фортепиано сравнивается с майевтом, т. е. с тем, кто постоянно задает трудные вопросы.
, обнажило ту часть моего «я», которую другие называют необыкновенным талантом, даже гением. Я еще не сознавал этого. Было лишь волнение от вслушивания в себя, вплоть до ощущения содроганий, идущих от пальцев к вискам и затылку, как мудрая ласка. Волнение и радость видеть, что меня влечет вперед та внутренняя сила, которая пугала меня, мою мать и моего первого учителя музыки. И непреклонный майевт, «Стейнвей и сыновья» немецкого выпуска начала века, открыл всем мой несомненный талант, когда я сам еще был не в состоянии это сделать. Мне было странно слышать себя в четырнадцать лет, безо всякого труда выучившего соль-минорный Концерт Рахманинова, будто бы весь мир, а не одна клавиатура, был послушен моей юношеской прихоти. Нынче мои прихоти — объект трактатов и монографий; я этого не выношу и стараюсь, насколько могу, уединиться.
Я вовсе не эксцентричен. Музыкальные критики любят давать пищу для легенд и рассказывают, что у меня скверный характер. Это не так. Я привык настаивать на своем и не меняю своих решений. Но разве этого достаточно, чтобы заставить говорить о себе как о капризнике? Журналы я предпочитаю не читать, следовательно, не занимаюсь теми, кто хотел бы заняться мной. Как говорил Пруст: «За что я упрекаю журналы, так это за то, что они ежедневно заставляют нас сосредотачиваться на ерунде, в то время как за всю нашу жизнь не наберется трех-четырех книг, где говорится о важном». Среди этих книг я мог бы поместить пару партитур — в качестве текстов для чтения.
Однажды неподалеку от моей виллы я встретил Владимира Ашкенази. Я с ним незнаком, и мне только потом сказали, кто это был. Он шел мне навстречу почти бегом, счастливый, и казался беспечным мальчишкой в поре детской неуклюжести, с руками, двигавшимися сами по себе. Он был одет в черные спортивные брюки и рубашку, которая еще больше оттеняла бледность его лица и белизну волос. Кажется, он мне что-то сказал, вроде: «Маэстро, я ваш большой почитатель». Не помню; дело в том, что человек с длинными белыми волосами, который, улыбаясь, несется мне навстречу, меня пугает. Поэтому я ретировался, как еж. Некоторые из друзей теперь говорят мне: «Жаль, вам было бы что сказать друг другу». Может быть, но я давно уже не посещаю концертных залов и не имею современных проигрывающих устройств. Иногда я притворяюсь, будто ничего не ведаю о компакт дисках, хотя некоторые мои записи сделаны уже и таким способом. Я провожу дни, читая музыку без инструмента, как роман Толстого, чувствуя ноты физически: они стальными шариками ударяют мне в грудь. Я скупил бы все рукописи мира, чтобы не иметь дела с печатными нотами, прекрасными, совершенными и такими одинаковыми. Но нет, настоящие рукописи лежат в музеях, чтобы никто их не читал — ни я, который умеет распознать каждое таинственное содрогание, каждое колебание, представить все это и трансформировать в звук; ни Корто, с его косящим взглядом и прищуренными веками; ни Рубинштейн, сильный, как польский крестьянин, способный напиться и потом великолепно играть. Не говоря уже о Клаудио Аррау. Я встречался с ним всего три раза: первый раз в 1949 году в Берлине, последний — незадолго до его смерти в Монако ди Бавиера, в городе, который я начинаю любить и предпочитать Гамбургу Должно быть, стоял декабрь, потому что все ходили в теплых перчатках. Было очень холодно. Когда он вошел в зал и сел за фортепиано, я понял, что долго не выдержу, и действительно вскоре ушел: я не выношу его неподвижной манеры держаться за клавиатурой, его виртуозности, исходящей от мозга, которой не нужна сила рук, его мягких и быстрых кистей, двигающихся без скачков. Все в нем казалось мне неестественным. Удивительный звук, лившийся из-под его пальцев, плохо соответствовал элегантной физиономии латиноамериканского латифундиста. Даром что с Аррау общались по-немецки, и он знал Берлин лучше, чем Сантьяго-де-Чили. Нужно признать: у него был талант тотальный, абсолютный. Он не просто великолепно играл; я подозревал, что он знает и может исполнить все. Он смотрел на тебя вежливо, чтобы не поставить в затруднительное положение, и с той же светской вежливостью тебе возражал, обнаруживая внутреннюю твердость. Нет, в его манере играть не было никакой аффектации, более того — в нем была загадка: пианист нутра, мозжечка, гипофиза. Так и ждешь, что рано или поздно руки исчезнут, и он продолжит играть одним движением мысли, а фортепиано вдруг обнажит свою душу, отбросив прочь торжество механики и освобождая струны от непосильного напряжения. А ведь рама инструмента несет нагрузку около десяти тонн.
Читать дальше