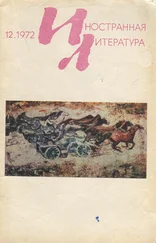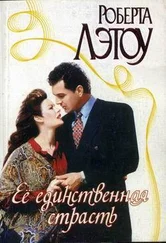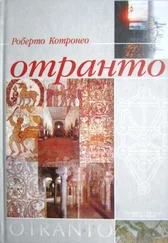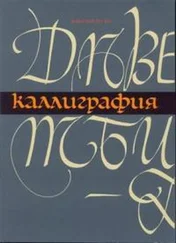Но более, чем Торонто, меня занимал сейчас другой город — Москва. Россия никогда до конца не понимала Шопена, в этом гораздо более преуспела Франция и, может быть, Италия. Баллады навеяны стихами Мицкевича, романтика и националиста. Русские были завоевателями, не могли понять польской души Баллад, и, возможно, тяготились ими. Польша под гнетом России была предметом страданий пламенного националиста Шопена (хотя он и носил французскую фамилию и неохотно расставался с Парижем). Странно, что именно русский смог сохранить драгоценную рукопись Четвертой Баллады. Но почему она была потеряна и каким образом найдена? Когда сегодня я думаю о том, как мне удалось воссоздать эту историю, я впадаю в глубокую ностальгию. Я был поражен радостной лихорадкой: мне не терпелось обнаружить, найти связи, расставить по местам недостающие кусочки мозаичной картинки, контуры которой мне были уже известны. Я помолодел, все мои переутомления и неврозы как рукой сняло. Я всегда избегал физических усилий, много отдыхал, не гулял слишком долго, потому что руки, завершение тела, жившего для них, двигавшегося ради их уверенности, силы и гибкости, нуждались в отдыхе и свежести. Впервые в жизни я не обращал на все это внимания. И взращивал свое стремление к тайне с настойчивостью, которая теперь меня смущает.
Прежде всего, я должен был поговорить еще раз с этим человеком. Встретиться с ним и попросить рукопись, взглянуть на нее. Но еще раньше я должен был удостовериться в ее подлинности. А для этого мне нужно было увидеться с одним другом в Лондоне, который знал все о Шопене, но еще больше — о чернилах, которыми он пользовался, о состоянии его перьев, о бумаге, которую он приобретал, и о множестве других вещей. Мой друг не был музыкантом, он был коллекционером, консультантом по музыкальным рукописям на самых престижных аукционах мира. Но, несмотря на то, что его нет в живых уже два года, я предпочел бы не раскрывать его инкогнито.
«Нет, нет, это Bates & Sons. Почти что той эпохи, около 1850 года. Глядите, маэстро, это просто чудо, механическое пианино, которое может играть и без валиков, но главное — это его механизм, лучший из всех мыслимых часовых механизмов. Их делали неподалеку отсюда, на Ладгейт-Хилл, 6. Должен сказать, что я дешево купил его, уж очень оно огромно, тяжело и занимает много места».
Пока камердинер Джеймса (будем называть так моего друга-коллекционера) разливал виски, я поглядел на огромный ящик орехового дерева, действительно ужасающий своими размерами. В этом салоне располагалась самая большая коллекция музыкальных механизмов, которую я когда-либо видел. Некоторые были восхитительны, некоторые почти пугали.
Я знал Джеймса издавна по семейной линии. Он был американцем из Бостона, приехал в Лондон в двадцатые годы вместе с отцом, послом в Англии. Больше он из Лондона не выезжал и принял английское гражданство. Мой дядя по материнской линии в тот период служил атташе по вопросам культуры в Лондоне и хорошо знал его отца. Джеймс был на четыре года старше меня, но выглядел моложе: благодаря крепкому сложению и привычке к длинным велосипедным прогулкам он и в шестьдесят лет смотрелся атлетом. Его дом, большая вилла в районе ***, казалась каким-то странным музеем. Там была не только коллекция музыкальных механизмов: механические фортепиано, барберийские органетты, жетонные пианолы, настоящие музыкальные шкафы, которые назывались «симфонионы». Люстры с музыкальными ящиками. Проигрыватели всех сортов, в том числе детские. Настольные часы с музыкой. И еще какие-то совсем необыкновенные механизмы, как тот, что я уже видел, или Hupfeld-Sinfonie-Jazz-Orchester, особый вид оркестриона, запрограммированный на джаз, где в движении были треугольник, саксофон, тарелки, ударные, банджо и черт знает что еще. Не говоря уже об оркестрионе «Огайо», где в высоченном трехметровом шкафу в тонну весом находились банджо, мандолина, скрипка, виолончель, саксофон, ударные, а рекламировался он как лучший из механических джаз-оркестров.
Сколько тратил Джеймс на покупку этих машин в Америке, Германии, Италии и по всему миру, а потом на их реставрацию — можно только догадываться. Однако зарабатывал он как эксперт по манускриптам, конечно, гораздо больше. Он не играл музыку, он на нее смотрел; для его глаз нотный листок был картиной, рисунком, который он анализировал с компетентностью специалиста по графологии, музыке, истории, а также чувствам. Как начал он этим увлекаться — не знаю. Знаю только, что в молодости он был подающим надежды пианистом и даже что-то записывал; в студии на Эбби-Роуд должна была остаться документация. Но неожиданно он прекратил играть, словно фортепиано вообще перестало интересовать его. Дядя говорил, что Джеймс отдалился от музыки из-за сильного нервного истощения. Ему было тогда немногим больше двадцати лет. Но поговаривали, что он повредил связки левой кисти, упав в горах, и карьера концертирующего пианиста с тех пор была ему заказана.
Читать дальше