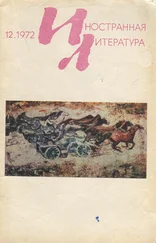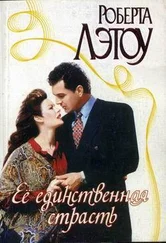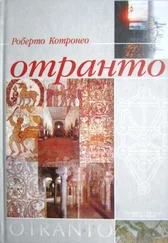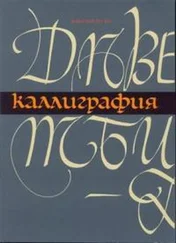Вспоминаю о том впечатлении, которое произвела на меня впервые услышанная в Латинской Америке босанова. Я, привыкший к классической музыке, получил разряд, подобный короткому замыканию, сквозь который пробилась мысль об отце, наводившем цензуру на чтение, но даже не подозревавшем, насколько музыка может быть чувственной и даже непристойной. Босанова обжигала мое тело, обнажала нервы, приводила в движение мышцы, и я переставал владеть собой. Я стыдился, зная, что это лишь чувственность, что здесь отказывает защитная система моей культуры, и начинают действовать иные законы. До сих пор не знаю, не эта ли музыка помогла мне освободиться от стольких условностей именно вдали от Европы, культуру которой я впитал в себя, и наиболее беспокойным и одаренным представителем которой я, по мнению критиков, являлся. Но все это я понял потом, а во времена чтения запрещенных книг я, не отдавая себе отчета, все время перечитывал начало «Сильвии». Блуждая среди музыкальных впечатлений той поры и расплывчатых образов Нерваля, я кончал тем, что не мог понять, в каком мире и в каком времени нахожусь: «Я вышел из театра, где каждый вечер появлялся в ложе на авансцене в длинном одеянии воздыхателя».
«Я вышел», когда, в какое время? Я был околдован временным пространством Нерваля, хрупким, смутным, почти эзотерическим в своем неясном и противоречивом течении. И точно так же околдовывали меня Прелюдии Шопена, которые, казалось, начинались ниоткуда, подвешенные в пустоте, как и начало «Сильвии». Мне всегда казалось, что романтический дух — это порождение двойственности времени, сотканного из ожиданий, пустот и внезапных ускорений. Романтическое время всегда поражает своей эластичностью.
С детства, как и Нерваль, я часто возвращался мыслью к Валуа, отыскивал древние обряды, песни и изображения, чтобы удовлетворить свою страсть к Прекрасной Даме, не имевшей точного обличья и складывавшейся из многих женских образов. Это меня очень обижало, я был чистым романтиком и не прощал себе, если влюблялся сразу в нескольких женщин. И всегда передо мной вставал вопрос: любовь ли моя отражала двойственность времени или временная переменчивость влияла на мои детские увлечения, а может — и не только на детские. Мне трудно было не подпасть под очарование книги, где непонятно, плод ли она безумного бреда автора или последнего озарения его угасающей души.
Но почему я оказался на улице д'Анкара, у дома 17? Искал место, где Жерар де Нерваль окончательно впал в безумие? А может, мне следовало пойти на улицу Вьей Лантерн, к калитке дома номер четыре?
Несколько дней назад сюда в Швейцарию, в эти забытые места, приезжал мой друг писатель, с которым нас объединяли общий день рождения и любовь к «Сильвии». Он готовил лекции, одна из которых была посвящена Нервалю. Этот приятель всегда хвастал тем, что спокойно переносит мою мрачную мину и перепады настроения. Он очень знаменит, гораздо больше, чем я. И здесь, в швейцарской долине, вдали от суеты, мой друг был весел больше, чем обычно: он уезжал с лекциями в Соединенные Штаты. Я откупорил бутылку Шато д'Икен, ибо он не пил красных вин. Он не без ехидства посмеивался над туристами и худосочными юнцами, которые едут в Париж, чтобы в молчании постоять на улице Вьей Лантерн перед оградой, на которой повесился Нерваль. Я не сказал ему, что тоже стоял там в скорбном благоговении много лет назад. Интересно, встречались ли Шопен и Нерваль? Нерваль родился в 1808 году и умер в 1855-м, Шопен родился двумя годами позже, в 1810-м, а умер на шесть лет раньше, в 1849 году, и с 1830 года жил в Париже. У них было восемнадцать лет для встречи, и все же, по-моему, они не встретились. Известно, что Нерваль в Вене в 1839 году виделся с Листом и с Камилем Плейлем, но с Шопеном — никогда. Возможно, Нерваль знал, кто такой Шопен, а может, и нет. Нерваль был знаменитостью литературного, светского и театрального миров Парижа, а Шопен — всего лишь молодым поляком, ищущим опоры и стабильности.
«Сильвия» могла бы свести Шопена с ума своей загадочностью. Его всегда привлекали неясности, хотя сам он временами был очень прост, например, в Этюдах. Что перекликалось для меня в «Сильвии» с музыкой Шопена? Мое романтическое чувство мало связывало меня с Нервалем и еще меньше — с Шопеном. Чего же я искал? Нерваля или его героев? Аурелию, странную актрису, в которую влюблен главный герой? Или Адриану, белокурую и далекую Валуа? Или Сильвию в слезах, в той сцене, когда рассказчик дарит венок Адриане? И какой же из трех женщин рассказчик в действительности домогается? Нет, я не смог бы ни сейчас, ни тогда, в пору душевной смуты, пересказать новеллу. Слишком неясно и темно время повествования, слишком глубока пропасть, которую открывает Нерваль. И в тот день, мечась в тоске по Парижу, я спрашивал себя, случайно ли оказался я на улице Д'Анкара, только ли для того, чтобы усталостью одолеть тоску, или были более глубокие причины? Может, я искал дверь в страну Валуа, в тот замок с башнями цвета пламени, где Нерваль видел девушек, танцующих и поющих в час заката?
Читать дальше