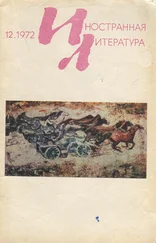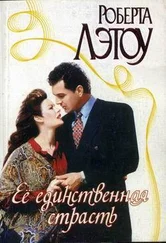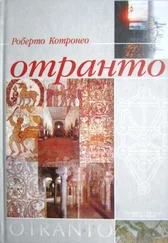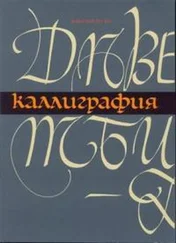Я знал, что не смогу удержаться, и заглянул в такт 211. Конечно, это начало коды [16] Кода — заключительный раздел музыкального произведения.
Баллады, один из наиболее ярких моментов во всех сочинениях Шопена. Ему предшествуют пять аккордов пианиссимо, первый и последний до-мажорные. Однако великий Шопен присоединяет септиму к до-мажорному аккорду. Я всегда думал, что здесь Баллада могла бы кончиться — в до-мажоре, как и началась. В пианиссимо, которое заставляет притихнуть беспокойную фа-минорную тему, похожую на тему романтической фуги. Однако неожиданно, когда уже кажется, что пьеса окончена на до-мажорном аккорде, растворяющемся в тишине — и сколько раз случалось, что зал, убежденный, что слышит последние звуки музыки, принимался аплодировать — начиналась игра отражений, задыхающийся и сверкающий бег по музыкальному лабиринту, яростная вспышка, долго сдерживаемый взрыв страсти, буря, давно ожидавшаяся и потому самая неистовая из всех, какие можно себе представить. У меня не хватает слов, чтобы описать то, что творится на последних страницах. Всякое сравнение меркнет перед лицом этой великой музыки и ее великой трудностью. Так спирт, брошенный в жерло угольной печурки, вспыхивает и греет минут десять, и огонь его не опасен, хотя и горяч. Так любовь, долго и тщательно скрываемая, самоконтроль, доведенный до степени искусства, вдруг не выдерживает и взрывается таким фейерверком чувств, что способен и удивить, и напугать. Говорят, что Корто представил именно эту пьесу как дипломную работу, и исполнение было незабываемым: он сыграл последние такты с поразительной скоростью и необыкновенной силой звука. Не знаю, правильно ли я выражу свою мысль, но мне показалось, что русский, который встретился мне, излучал то же возбуждение, что и такты 211, 212, да и все последующие такты Баллады. Это чувствовалось, когда он расставался со мной, уходя почти бегом и сказав на прощание: «Маэстро, я не хочу и не могу больше ждать. Я снова появлюсь у вас, имея с собой то, что Вы искали долгое время, не отдавая себе в этом отчета. То, что только Вы сможете теперь сыграть и, я уверен, сделаете это превосходно. Вам это не будет стоить много, я имею в виду, что любая цена будет смехотворной, если взять в расчет истинную ценность — как сказали бы Вы? эстетическую? — того, что я Вам представлю. До свидания, маэстро. Кстати, та девушка, которую Вы провожали сегодня утром до моста, была недурна…» И, понимающе взглянув на меня, он решительным шагом направился к улице Декарта.
Хочешь узнать — научись ждать… Я постарался отстраниться от своих терзаний, но обнаружил, что такой путь мне не под силу. Страшно было даже подумать о том, что надо снова приниматься за работу: играть музыку, слушать ее, опять играть, опять откладывать, браться за книги, искать в них параллели, помогающие что-то поменять в интерпретации (словечко профанов, которое ровно ничего не значит)… В свои шестьдесят лет я доводил сотрудников до сумасшествия во время записей двух Прелюдий Дебюсси. Им исполнение казалось прекрасным, а мне банальным. Я не различаю нот, но чувствую каждую частоту не хуже осциллографа, вибрирующего от воздействия волшебных звуковых волн. Мои звуко-инженеры слышат ноты гроздьями, по крайней мере, по три сразу. Хорошо, если, появляясь на концерте, они узнают записанную вещь. А те, что не ходят на концерты, просто не знают музыки.
В те дни в Париже я заканчивал вторую Тетрадь Прелюдий Дебюсси, над которыми трудился десять лет. Десять лет для тридцати восьми минут записи и для двенадцати записанных пьес. Есть пианисты, такие, как Рубинштейн, которым хватает двух дней на запись всех двадцати четырех Прелюдий Дебюсси. Я так не могу. В этом смысле мы всегда хорошо понимали друг друга с Гульдом. Как-то в Торонто он сказал мне, что я его превзошел, несмотря на то, что на запись Инвенций Баха у него ушло немногим менее двадцати лет. Он работал по фрагментам, кусочек за кусочком. В студии звукозаписи он всегда строил из себя Франкенштейна. Пьеса репетировалась, проигрывалась десятки раз, потом лучшие фрагменты монтировались, и таким образом собиралась запись. Даже самый взыскательный слушатель ничего не смог бы заметить, все было сделано блестяще. Такая работа не для меня. Я просто играю в данный конкретный момент данную пьесу и не хочу ее дробить. Я знаю, что в будущем придет совсем другое решение. Но в тот момент, после встречи с русским, мое будущее уже походило на прошлое, которое следовало пересмотреть. Итак, что же делать? Ощущать себя в центре мирового заговора: русские шпионы, французские служащие, жадные американские пианисты, готовые на все ради одного полутона, записанного с должной прилежностью? Я прекрасно понимал, что это чепуха, что никто за мной не следит, да и кому я нужен? Русскому с нездоровым дыханием, который хочет заработать на моей известности и собирается продать мне что-то, о чем я имею слабое понятие, и что на самом деле может стоить дорого? И что с того, что он видел девушку, выходившую из моего подъезда? В конце концов, он не увидел ничего особенного. Да, но почему он сказал «девушка в шляпе?» Или он этого не сказал? Вряд ли, он не мог так сказать, у девушки не было шляпы. Это я сравнил ее с персонажем миниатюры Делакруа, и то потому, что художник был другом Шопена. И все же он сказал или мне почудилось? Я начинал бредить, мне казалось, что я не встречал никакого русского.
Читать дальше