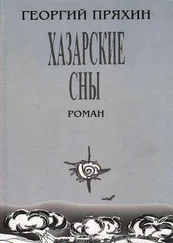Сильное сердце остановилось.
— Ты должен закрыть ей глаза, — сказала она мне шепотом.
Я, еще не понимая, что делаю, подошел, закрыл как сумел. Странное, чудовищное прикосновение к твердым человеческим зрачкам — пальцы помнят его до сих пор.
Фельдшерица, уже не сдерживая облегчающего плача, вышла на порог — первая вестница Настиной смерти. Наверное, это была ее первая покойница. Первый человек, которого она не вылечила, хотя… кто бы вылечил?
Что, если эта девчонка была родом с Черных земель? На сей раз они Настю не выручили. Не вызволили.
Потом память моя делает скачок, и я вижу, как мы с дядькой Сергеем при гробовом молчании выбираем в сельмаге материю. Продавщица протягивает что потемней, дядька отодвигает и снова настырно берет посветлее. Потом несем материал домой, и дядька молча, как маленького, ведет меня за руку. Наперекор остальной родне он хотел, чтобы я участвовал во всех заботах, и был, пожалуй, прав. Вот шлю телеграммы на почте: дядькиной жене, двоюродной бабке с дедом. Телеграмм мало, и телеграфистка Ксеня Подсвирова возвращает мне все мои деньги. Я, не чинясь, опускаю их в карман. Прихожу с почты и вижу мать в той самой материи, которую покупали в сельмаге.
Нас усаживают на лавку перед нею, так мы потом получимся и на фотокарточке — обезглавленным косячком: я — побольше, средний брат — поменьше и Толик — его еле видно. У меня на правой руке, давно перегнавшей рукав потрепанной вельветки, нелепо выделяются часы «Кама» со светящимся циферблатом: дядька подарил в последний приезд. Тогда он приезжал в гости: торжественный, с теткой под ручку и с девочкой в соломенной шляпе — так двигался он по улице родного села. Отпуск в деревне. А мать не удержалась, не устояла возле ворот, побежала им навстречу.
Каждый из нас троих уставился в свою точку, и свой участок материи — если бы не материно лицо, можно было бы вообще усомниться в том, есть ли там, под материей, что, — я тоже запомню навсегда. Складки, расцветку, узор…
Вот везут ее, и я сверху, с машины, вижу, что последним в процессии бредет Колодяжный. Бредет даже не в процессии, а отдельно, сам по себе: дядьки грозились прибить его, если он придет на похороны. Считали его повинным в Настиной смерти. Сгоряча, конечно, — недостаток образования. А там — кто его знает. Кругом степь, ни домов, ни прохожих, но Колодяжный тем не менее на минуту останавливается, по-бычьи наставляет голую комолую голову и пьяно внушает белому свету, кто есть кто.
Ловлю себя на мысли, что мне его впервые не страшно…
…Но это — скачок. А если по порядку, то я выхожу следом за фельдшерицей, спускаюсь с порога, выворачиваю на улицу. Иду, удавленно скуля, в тусклой декабрьской грязи под моросящим небом. К Гусевым: «Мамка умерла…» Еще к Гусевым: «Мамка умерла…» К Нюре Рудаковой: «Мамка умерла…» К тетке Дашке, к Филевой Степаниде… Много народу надо мне обойти, позвать на похороны, на поминки. И я не останавливаюсь ни в одном доме, ни в одном дворе, вырываюсь, с дядькиной настырностью лезу на улицу, в грязь, в ветер, в дождь, в котором уже остро, больно проскальзывает крепкая, свалявшаяся снежная крупа.
— Приходите, мамка умерла, — стучу в сырые, слезящиеся с обратной стороны окна, вместе с печальным известием вручая им, как Настино завещание, собственную судьбу.

![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-thumb.webp)