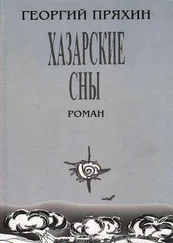— Хватит.
Как фитиль задула.
Настя смешалась: в доме у нее спиртного не водилось.
Некоторое время сидели в неловком молчании. Потом Нюся положила голову на правую ладонь, занавесила глаза и потихоньку-полегоньку, как малое дитя с горки, повела:
Посияла огирочкы
Блызько над водою.
Сама буду полываты
Дрибною слезою.
Нюся была из хохлушек, село вообще резко делилось на «москалей» и «хохлов»: дальние предки и тех, и других осваивали когда-то эти новые свободные земли. Из тех далеких времен многое утрачено: и обычаи, и язык; одно хранится, идет из рода в род — песни. По ним чаще всего и определяют, кто москаль, а кто — хохол.
Василь Степаныч переждал маленько, закинул ногу за ногу, отчего зайчики на беленом потолке резво стукнулись лбами, сложил на животе крупные, но тоже не по-деревенски аккуратные руки и, со стороны глядя, занятый совсем посторонним делом — рассматриваньем блещущих хромачей, вступил:
Ростить, ростить, огирочкы
Четыре лысточка.
Не бачила я мылого
Четыре годочка.
Настя даже вздрогнула: так неожиданно высок и звонок был голос этого немолодого человека. Его высоты хватало и на то, чтобы и Нюсин голос, простодушный, как и ее смех, не просто летел впереди нее, на некотором отдалении, а взмывал выше, звончее, мужское подголосье поднимало, гранило и оттеняло его. Насте вспомнилась картина, которую она видела когда-то в городе на базаре. Женщина, продававшая дорогую пуховую шаль, дабы подчеркнуть редкостную работу, сняла с пальца золотое обручальное колечко и, как в игольное ушко, продернула в него платок. Так и Нюсин голос, мягкий, волнистый, пуховый, был продернут — оправлен? — в живое кольцо. Оно придавало ему форму, оттеняло и — свойство благородного металла — облагораживало его. Нюся сама изумленно почувствовала это, и слышней задышала в песне ее растревоженная душа.
На пьятый побачила,
Як черед узнала.
Не посмила сказать: «Здравствуй»,
Бо маты стояла…
Откуда было знать им, и Анне, и Насте, что Василь Степаныч Колодяжный еще двенадцатилетним мальчиком-подмастерьем «спивав» на праздничном престольном кругу сапожных киевских магнатов, высекая в них нетрезвую падучую слезу, — а уж кто-кто, а сапожники, люди древнего надомного ремесла, силу и в песне, и в голосе знают! Их на мякине не проведешь.
Песня закончилась, и теперь уже Василь Степаныч, сам, почти не переведя дыхания, завел другую:
Дывлюсь я на нэбо
Тай думку гадаю…
Нюся почему-то не поддержала его: то ли слов не знала, то ли убоялась вышины, на которую он ее приглашал.
Чому ж я не сокил,
Чому не литаю,
Чому ж ты мэни, боже,
Крылец не дав…
Он сидел все в той же позе, только руки легли на животе еще вольней, свободнее, да лицо как-то побледнело, выделив все, что раньше было сглажено, приглушено: костистые скулы, жесткий раздвоенный подбородок, тяжелый затор морщин у переносья. И по мере того как опадало его лицо, напрягалась, обретала молодую мощь широкая, еще не севшая, как старое голенище, шея. Она словно огонь выдувала, и он поднимался высоко, выше Настиной хаты, он уже стоял ровным прозрачным столбом, а в него все подкладывали и подкладывали. Голос просил крыльев, чтобы «землю спокынуть», а сам и без них покидал ее легко и печально. Настя была захвачена песней, огонь и ее вовлек в сладкую свою работу. И хоть сама она была из москалей, чья-то чужая песенная судьбина — так ли уж и чужая! — была щемяще понятна ей.
Далэко за хмари
Подали витсилю
Шукать соби доли
На горэ привиту…
Так вот ты какой жених, Василь Степаныч! Так надо было сразу и признаваться, — задумчиво сказала Нюся, когда он кончил петь.
Василь Степаныч слабо улыбнулся, длинно, жутковато длинно скрипнул крепкими зубами:
— Тихо, тихо, я — Колодяжный…
Так она впервые услыхала и этот леденящий душу скрежет, и сопровождавшую его угрозу…
Тут же в горнице, на полу, укрытом чистой мелкой соломой, жил у Насти трехдневный телочек. Копытца у него еще не отошли, и когда он пытался вставать на ноги, они смешно разъезжались, и тогда его моляще уставленные глаза искали подмоги у людей: ну поддержите же… Его пора было поить молоком, а утреннее вышло, надо было идти доить Ночку. Настя еще сидела, а у самой душа уже была не на месте.
— Подождите, я сейчас, — сказала она гостям, захватила доенку и, как была в чистом, только переобулась, вышла во двор.
Читать дальше

![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-thumb.webp)