Ване стало скучно и душно: он ничего не понимал, а все кругом понимали, дышали горячо в шею. Он пошевелился, оглянулся тоскливо — из полутьмы мимо него жадно смотрели сотни возбужденных глаз, впитывали непонятную игру светотеней.
— Ну как? — пытливо шептала сестра. — Понимаешь?
— Пойдем…
Но она все смотрела в экран, и он посмотрел тоже. Какие-то низкие тяжелые машины плевались белым огнем, на машинах чернели четко кресты, падали картонные фигурки, сталкивались, опять бежали, но уже обратно, а машины пылали красивыми кострами без звука и запаха. Сидеть становилось все тяжелее, потому что теперь он и не хотел ничего вспоминать, даже если б смог.
— Что это? Узнаешь, видал? — шептала сестра.
— Нет… — отвечал Ваня. Он сидел, потому что чуял ее волнение, но зачем оно и почему? Он закрыл глаза.
— Пойдем! — Он взял ее за руку, и сейчас же побежали токи через ее пальцы в него, и тогда он увидел то, что она видела глазами, но увидел в себе: черное острие, как мотыга, долбило живую вздрагивающую пленку на темени, белые трещины пропускали огонь, смыкались, а через тучи дыма смотрели женские глаза с такой дикой тоской, что становились слепыми бельмами. Он смотрел на это, крепко сожмурившись, музыка стала понятной — это была музыка горя и ненависти, она дробила череп, и ему стало нечем дышать. Он открыл глаза: пожилая женщина, растрепанная, изможденная, кричала что-то из двери теплушки нерусским солдатам, которые смеялись и проходили мимо. Они шли жрать. Один из них играл на губной гармонике. На миг все стало не картонным, игрушечным, а настоящим, и Ваня почувствовал беспомощность и ужас. Он встал и пошел по ногам к выходу.
— Дурачок ты мой, что с тобой делать — не знаю, — говорила во дворе сестра. Он смирно слушал, косился на электрические пятиярусные окна.
— Я домой хочу… — жалобно попросил он.
От нового корпуса до старого флигеля было метров двести. Но сразу, как вышли за черту электричества, хлынула в ноздри ночная жизнь травы и чернозема огородов, осмысленное переквакиванье лягушек от ручья, а на утомленную голову опустилась, как защита, ночная летняя мгла. В ней шуршали листья, гнулись веточки старой березы, которую Ваня знал всегда. Кора у нее сбоку была глубоко ободрана трактором, но она не жаловалась и не мстила. Она все понимала и ничего не боялась. Потому что она жила не в кино, а здесь, в своем ветровом, земляном и зоревом доме — в мире ином.
* * *
— И чего тебя никуда из дома не выгонишь? — говорила сестра. — Сидишь сиднем, хоть бы в город сходил, в магазин, с людьми бы потолкался, а то…
— Я в магазин ходил! — гордо сказал Ваня.
— Всего-то разочек сахара купить. Сходи просто по улице погуляй. Какие дома-то новые построены — красота!
— Не надо мне этого. Города — не хочу…
— Ну хоть бы книгу какую почитал. Ты ж ведь в школу-то ходил раньше! Вот газета — прочти здесь. Ну?
Он взял газету и тихо отодвинул.
— А чего там? Не умею я.
— Умеешь! Я сама видела: «Огонек» ты читал. Это раньше ты не умел, забыл, а потом пошло само. Читать надо тебе!
— Слова там такие. Это все сон, — объявил он уверенно.
— Сон! А что для тебя не сон?
— Не сон — там, — объяснил он, обводя рукой круг возле своей груди. — Я тебя туда возьму, — пообещал он с такой тихой любовью и твердостью, что она промолчала. Но вечером положила перед ним журнал.
— Прочти вслух, — попросила настойчиво. — И врачи советуют… Развиваться тебе надо. Ну, немножко, вот хоть здесь.
Он послушно, но запинаясь, начал:
…Воспоминания о боевых делах партизан, о подвигах советских людей и жертвах, принесенных ими ради освобождения Польши, навсегда живут в памяти народа… Вечная память тем, кто…
Он оторвался, наморщил лоб: «навсегда живут, вечная память»…
— А что это: «вечная»? Какая это?
— Читай дальше.
— Нет, ты скажи — как это: «навсегда живут…»?
— Читай дальше.
— Нет, ты скажи — как это: «навсегда живут…»?
— Читай, читай…
…Совершая глубокий рейд по тылам противника, бойцы партизанского отряда проявили беззаветное мужество…
«Рейд… беззаветное…» — шептал он, начиная волноваться, еще раз глянул на густые печатные строчки, и вдруг череп точно пробило искрой — он увидел скомканную газету на пашне, порозовевшей от ледяного восхода. Что-то громыхнуло в невозможной дали, словно с того света, газета погасла. Ваня сморщился, встал тяжело затопал во двор. Там он долго сидел возле поленницы, рисовал прутиком по пыли, иногда тер переносицу — силился что-то вспомнить. Но не вспомнил ничего, только сдавило затылок, заныло в черепе, под волосами. Прутик все рисовал по песку рожицу с улыбкой. Где-то так вот сидел и рисовал. Но тогда рука его была тоньше, светлее, мягче. Когда же она изменилась и стала «лапой»?
Читать дальше
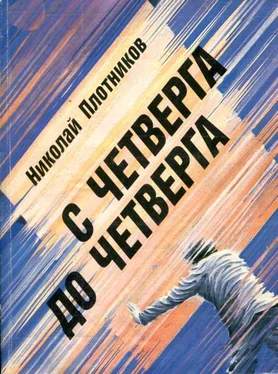
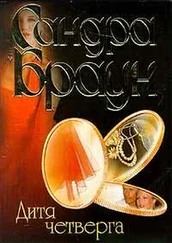



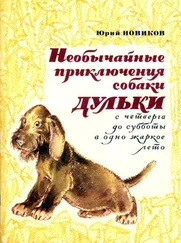



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


