— Какое там! Насильно не вытащишь, сколько лет все у поленницы сидит у флигеля. Да еще на зады, на опушку сходит. Он улицы страшится.
— Ну и хорошо, — сказал врач, — пусть сидит, пусть…
Сестра встала, взяла историю болезни, одернула халат под пояском.
— А он… всегда такой будет? — спросила быстро, опустила глаза.
Базилевич пожевал мягким ртом, кивнул лысиной:
— Здесь может быть трепанация, да и то… Нет, я думаю — невозможно. Нет.
Она тихонько двинулась к двери, вышла, так и не подняв глаз.
* * *
В комнате на первом этаже кирпичного флигеля было пусто, тихо. За окном бледно зеленела лебеда, серел гнилой забор, на подоконнике меж хлебных крошек бродили две бронзовые мухи.
Ваня лежал босой на широком стеганом одеяле, смотрел в тусклый квадрат окна, в удалившийся сон. Он только что проснулся, но сон невидимо еще держался в комнате: ситцевое платье в простенке боязливо прислушивалось к диковатой степной песне. Песня была чужда домашней теплоте этого платья. Но Ване она была знакома: заросшие лица, задубелые складки, но очень молодые зубы, звенящий надрыв, а потом стоны, прекрасные, почти детские, беспомощные стоны, и цветущая, примятая колесами гречиха, и дым на лунном закате, и запах масляного металла, нежной шеи, пушистых волос, гречишного меда, и солоноватый вкус слез. Он кого-то тащил на руках, долго, безнадежно, но непреклонно тащил, все выше и выше шагая по ступеням дымной тучи, к закату, к проруби золотистого неба, где смешались и лунный и солнечный свет. Тащил, потому что глаза (чьи?) были совершенно чисты, как две капли из родника, чисты от страдания, медленно незаметно переходящего в счастье. Еще шаг, еще — и они выйдут на край золотистой проруби и освободятся от гнета, от всего… От чего? В открытое окно были слышны сдвоенные шаги, стон, еще стон.
Муха с подоконника перелетела на стол, поползла по клеенке, остановилась перед фотографией. Фронтовое фото — 9 на 12 — боец, пехотинец, прямой серьезный парнишка в огромных кирзовых сапогах. Пряжка начищена кирпичом, пилотка немного набок на стриженой голове, торчащие уши, курносый нос, прыщик над верхней губой. Видно, что ни разу еще не брился. А глаза — выпуклые старательно неподвижные и молочно-гладкий глупый еще лоб.
— Ахтунг! — крикнул фотограф. Парень расслабил шею, скупо улыбнулся: когда щелкнул затвор, на одну секундочку почудилось, что это — пуля, и он ощутил невесомость мертвого, но еще стоящего тела и птицу, рванувшуюся через глаза в пустоту. И — очнулся. Он увидел — четко и в красках — бордовое стеганое одеяло, деревянный стол, бронзовую жирную муху на вытертой клеенке стола. Он скинул ноги с кровати, сел. Муха перелетела на обои. Вечернее солнце дробило по обоям оранжевые квадратики. И по столу тоже. На столе стоял красный фарфоровый чайник с отбитым носиком. А за столом сидел пацан в застиранной сатиновой рубашке, скуластый, пучеглазый, и тянул с блюдечка жидкий чай. У него торчали уши, зрачки обшаривали стол — нет ли еще хлебца? «На полке возьми!» — хотел сказать Ваня и испугался: это был совсем не сон. Это был он сам.
* * *
— Я не могу больше с ним, сколько же лет терпеть можно? — сдержанно-безучастно сказала сестра. — Совсем замолчал, кого-то в комнате видит, боится…
Старый психиатр терпеливо слушал, потирал подбородок длинным пальцем.
— Аврам Герасимович! — Голос ее сорвался, она вскинула глаза. — Ведь он как без вести пропавший, ни фамилии, ничего… И я с ним уже… Помогите! Мария Васильевна говорила, приехал хирург, трепанации делает, профессор… Поговорите с ним! Уж лучше б я… не…
— Куманин здесь проездом, — сказал психиатр. — Правда, он заинтересовался этим случаем, он полагает, что здесь пролом, гематома, давление… Хм! Не знаю, не знаю… Ведь это очень рискованно, Люда. Нет, я — против. Не советую.
— Аврам Герасимович! — сестра говорила все тише и напряженней, щеки пошли пятнами. — Прошу вас! Ведь вся жизнь… Моя. И его тоже… — сказала она с хриплой прямотой отчаяния, и он понял.
— Хорошо. — Он опустил веки. — Я спрошу. Но вы понимаете, что может стать хуже? — Карие глаза смотрели грустно, серьезно. — Совсем хуже. Понимаете?
— Куда уж хуже-то?! — сказала она, торопясь отстоять свое. Базилевич встал и, повернувшись к окну, стал развязывать тесемку на рукаве халата. Серый блик передвигался по желтой лысине.
— Хорошо, — сказал он устало. — Делайте пока анализы. Клинический крови. Рентген. Я напишу направление. Я поговорю с Ираклием Федоровичем.
Читать дальше
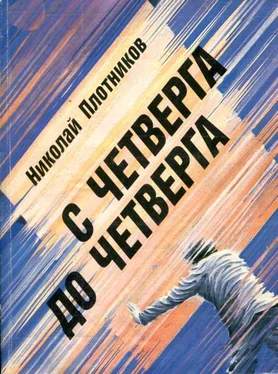
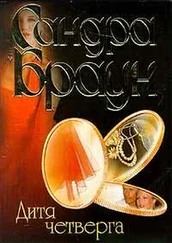



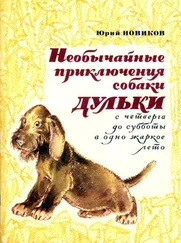



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


