Она стояла и смотрела в затылок врача такими напряженными, лихорадочными глазами, которых никто никогда не видел на ее профессионально бесстрастном лице.
«Снимите каску!»
Язык мешал во рту; в пожухлой траве расползалась вонь тола; длинная борозда пропорола землю совсем рядом.
Слева стукнула противотанковая пушка, другая; в осеннем тумане лопались глухие пузыри взрывов.
«Не вижу — снимите!» — повторил он. Изморозь на осоке перед самыми глазами остекленела изнутри, и вся кочка, как под линзой, вспыхнула, и зрачки опалило ледяным огнем, а потом накрыло, точно шапкой.
«Накрыло!» — крикнул он с бессильной ненавистью. — «Завалило, засыпало!» — с тоской повторял он, стараясь оттолкнуть руками земляную тяжесть, и открыл глаза. Перед глазами стояла марлевая пелена, за пеленой шептались, позвякивали, ходили. Потом по-человечески закашлялся кто-то и сухо сказал: «Снимите повязку».
С белого потолка матово светились плафоны, вокруг стояли врачи, под белыми шапочками одинаково выжидающе острели глаза. «Госпиталь, — понял он. — Ранен я».
— Вы меня видите? — спросил, нагибаясь, врач с длинным морщинистым лицом.
— Да…
— Узнаете меня?
— Не…
— Я — Аврам Герасимович. Вы меня знаете.
Больной напрягся, моргнул:
— Не…
— А это кто? — Врач показал на полную пожилую женщину в белой косынке. Маленькие желтоватые глаза женщины стали испуганны, на мятых щеках проступили розовые пятна.
— Не знаю, — сказал больной равнодушно, зрачки его побежали мимо по лицам, по стенам, по потолку. — Это где я? В госпитале я? Ранило меня? Да? Куда ранило-то? — спрашивал он, запинаясь.
— Да, да — госпиталь. Вернее — больница. Ну вы сейчас поспите, а мы пойдем. Вам много говорить вредно. И садиться, вставать тоже нельзя. Люда, дайте ему снотворного. Пойдемте, товарищи. Ираклий Федорович, это — блестяще, я серьезно, не льщу вам, но вы на практике доказали, что… — говорил голос врача уже в коридоре.
* * *
Маленькая палата на две койки. Вторая — пуста, застелена белым покрывалом. И все белое: стены, дверь, потолок, оконные рамы. За высоким окном — небо, летние вечерние облачка — и тишина. Там небесная тишина, а здесь — больничная, стерильная, но тоже глубокая. Только дыхание шелестит, «дышу, цел, жив!» — и затопляет радостным теплом до самых ногтей — «жив, живой, выжил!» Моргая, улыбаясь, он долго без мыслей смотрел на облачка за окном, потом пошевелил ладонями, ощупал под собой простыню, матрас. Сверху тоже простыня, чистая, прохладная. Мягко. Тепло. Тихо. Никогда в жизни он в такой чистоте не лежал. «Как барин!» Он выпростал руку, потрогал голову — бинты, шлем из бинтов. «В голову, значит…» Давило изнутри на глаза, на надбровья, не сильно, но когда пошевелился, в затылке словно перелилась ртуть, как вода на дне лодки, отдалось, тюкнуло в темя. «И не сядешь сам… Тяжелое, значит…» В голове — как с похмелья — мутно, тяжко, во рту — гадко, язык, гортань, губы словно отекли. «Попить бы…» Но просить было некого. «Чего это я один тут…?»
Он сглотнул лекарственную горечь, покорился, зрачки повернулись к окну, сонно расслабились.
Край облачка наливался прозрачно, золотисто, квадрат окна перечеркнули стрижи, и больной благодарно вздохнул. Медленный теплый покой входил в голову, в ослабшее тело, меркнул свет за влажной пленкой, капля сползла, задержалась в углу рта, и он слизнул солоноватую влагу, сожмурился. «Жив!» Ничего не надо было больше — ни думать, ни делать. Когда неслышно вошла пожилая сестра (та, про которую врач спросил: «А это кто?»), он открыл глаза, но улыбка осталась.
— Вот таблетка. На, запей…
Он послушно проглотил, попросил:
— Еще… Испить…
Он слушал, как булькает в стакан вода, как звякнуло стекло, а потом пил большими глотками с наслаждением, долго и смотрел в усталое напряженное лицо сестры. Она отвела глаза.
— Спи… — сказала, облизала бесцветные губы, — спите теперь. Не надо ли чего?
— Не…
— Если что надо — вот звонок, вот кнопочка эта, нажми… нажмите — дежурная подойдет. Лежите тихо, подыматься нельзя, ничего нельзя пока.
— А мне и не надо ничего, — сказал он, — лежать-то тепло, чего не лежать, раз раненый. Где это я лежу-то?
Она все смотрела странно, скорбно как-то вроде, не разберешь, да и ни к чему. — Медсанбат-то где ваш? В городе?
— Спите. Говорить не надо много. — Она все не уходила, вскинула брови, нагнулась. — Голова-то болит?
— Не… Когда ворохаюсь — словно вода в черепушке, а так — ничего, ладно… Далеко передовая-то?
Читать дальше
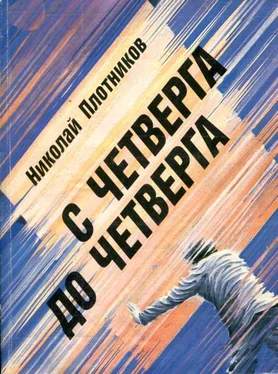
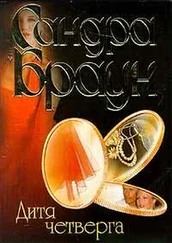



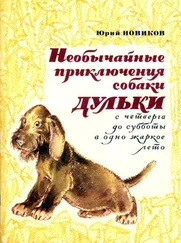



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


