* * *
Месяц за месяцем, год за годом (он не считал их) слова все больше теряли значение, пустели, отмирали, как чешуйки старой кожи. Незачем говорить слова, которые мертвы. Даже хуже: они хитро выворачивают суть, заманивают в сторону, а потом рассыпаются прахом. Говорить надо не словами, а душой.
Через поры кожи, глаза, ноздри, губы, через кончики пальцев и сухие волосы — душа ощущает суть, самое скрытное везде и во всем. Она предостерегает или влечет, в ней нет обмана. В ней живут все былинки, облака, лошади, лужи, люди. Только стихни — и она подскажет. Верь душе своей.
Ваня лежал в траве и думал. Но думал он не словами. Муравей полз по прутику вверх, остановился, ощупал Ванину душу маленькими антеннами. Он в хитиновом панцире, потому что скрывает нечто столь древнее, что становится страшно. Такое же древнее, как у камней и песка. Забытая всеми, мутная, как янтарь, сердцевина древности. А в ней — муравьиное сердце, чуждое всему, потому что у него не свое, а общинное сердце. У некоторых тоже, переродясь, общинное сердце, но это совсем не то, что у муравья, это даже противоестественно, потому что такое сердце любит не лицо, а муравейник. Оно подчиняется только маршу и равнодушному размножению. Или равнодушному истреблению. В ритме неуклонном и усыпляющем, который передвигает балки, стропила, трупы погибших мотыльков. Ритм, воздвигающий башню до неба. Обязательно до неба хотят доползти муравьи, миллионы лет они ползут и ползут до неба. Вокруг них башни на все стороны света лежит чисто подметенная пустыня, стерильная от спиртового яда.
Муравей убрал антенны, испугался: прикоснулся и почуял человечью душу. Она одна была ему страшна, хотя он не знал, что такое страх. В нем жило колдовское знание, без логики и формул, отпечатанное навечно в его крохотном мозгу.
— Не бойся! — сказал Ваня муравью; в траву меж ресниц упал солнечный столб, замерцали пылинки на листе, на хитиновой спинке муравья, и мудрая теплота затопила опушку. Августовское солнце грело всех без различия, все были ему дороги, даже этот муравей, который торопливо уползал вверх по гибкому травяному стеблю.
Ваня лежал в чистой тонкой траве в тени одинокой ели. С опушки был виден корпус больницы, но Ваня смотрел, как пух чертополоха трепещет на еловой щетине, не может отцепиться. А в макушке этой одинокой елки остановилось облако, похожее на пух, и в панцире муравья голубел осколочек неба, и сырость земли проникала в поры тела, и в луже пересыхающей плавали еловые летучки. Все жило и дышало, проникая друг в друга. Около тележной колеи, заброшенной в засохшей грязи, отпечатались худые птичьи следы, а рядом — Ванина нога. Все было в покое и дреме, ничего не было зря: и пух чертополоха, и красная бусина «волчьей ягоды», и загорелая мужская рука с мягкой ладонью, которую покалывали тончайшие живые токи лесного перегноя. Все было в Душе мира, которая живет вне времени и вещей. Он закрыл глаза, чтобы ничего не мешало ее слушать.
* * *
— Он совсем перестал говорить, Аврам Герасимович, — сказала сестра районному психиатру Базилевичу, — а вы чего-то дознаться хотите. Я ж уже какой год с ним живу, а не дозналась.
— Неудивительно, неудивительно, — тихонько приговаривал Базилевич, катая шарик из промокашки. — А сны он не рассказывает?
— У него не поймешь — где сны, а где правда… Иной раз во сне бормочет.
— Интересно, интересно… А что бормочет?
Сестра замялась:
— Да так, ерунду…
— Но все-таки?
— Ну, раз вроде молитвенного чего-то, не разберешь…
— Молитвенного? Надо записывать. Вы записывайте все.
— Да не поймешь толком, что-то вроде: «Слышу, слышу… Господи, да что ж это? Вытащи, вытащи!..»
— И все?
— Да. А другой раз как крикнет: «Второй номер! Второй номер!»
— Интересно… Он вас всегда узнает?
— А как же! Хоть через стенку, честное слово! Но вот фотокарточку мою не узнает. И свою — тоже.
— Разве есть его фото?
— Есть. В солдатской форме. Парнишка еще. Больше ничего не было при нем. В части фотографировался, верно. В шинели.
— Интересно… А с другими, говорите, он почти перестал разговаривать?
— Раньше разговаривал, а теперь чего-то не хочет. Трется возле людей, а говорить боится. С тех пор, как в кино я его водила. Нет, раньше стал молчать — когда старичок один помер от воспаления, Сапером его звали… Но это когда еще было! Сто лет назад.
— Интересно, интересно… — Базилевич задумчиво постукивал по столу, его лысая макушка мигала желтым бликом, яйцевидные веки прикрывали взгляд. — Интересный случай, интересный… Вы его все же за ворота одного не отпускайте.
Читать дальше
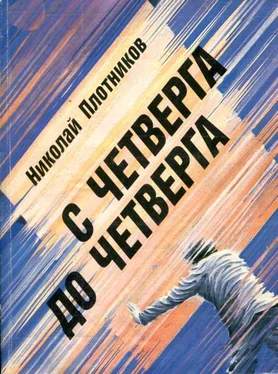
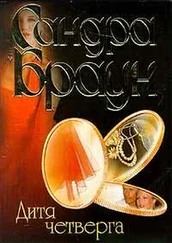



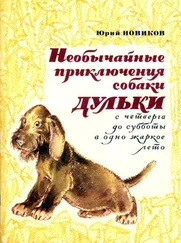



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


