— Иди, Ваня, — попросил он.
— Счас. Я тебя спросить хотел… Мне не говорят, смеются.
— Что?
— Кто я такой?
— А сам не знаешь?
— Нет.
Старик устало откинулся на спину, всем телом ушел в постель. В морщинистую щеку чуть дуло зябкими запахами из форточки, дымилась росой лебеда у забора.
— Не знаешь? Ну и не надо тебе этого… Ты блаженный, Ваня. И все тут. Контуженый, блаженный.
— А ты?
— А мы — известно: мы — народ, люди, значит. Обнакновенные.
— Другие?
— Блаженный — щастливый значит. На што тебе науки эти? Иди, Ваня, иди — светло вон. А я посплю. Полегчало мне, значит, я и посплю. Иди, милый…
* * *
К трем дня старого солдата перенесли в седьмую, где вторые сутки маялся в беспамятстве огромный слепой шофер. А на другой день рано утром на задний двор подали крытый грузовик и один за другим снесли с черного хода два закутанных кокона, погрузили, хлопнули дверцей, и машина, ворча, покачивая кузовом, выползла со двора на улицу.
Выздоравливающие на бочке играли в домино; ни один не повернул головы.
— Твой ход, Федька! — фальшиво-бодро крикнул чернявый. И Федька торопливо поставил костяшку на кон.
Ваня стоял у дыры в заборе, следил, как машина с улицы свернула на зады, в поле, как она уходила в желто-зеленое свечение одуванчиков, чернея, словно большой жук. Там в рыхлой крестьянской земле медвяное солнце прогревало твердые шелковые коконы, и паутинный блеск его лучей был нестерпим для глаз, но, прищурившись, можно было уловить, как две тени, планируя, ликуя, несутся над колеями проселка, над мелким ручьем, и дальше, дальше, выше, к жаркому облачку над редким осинником. Две плоские тени, догоняя друг друга, уменьшались, вот-вот исчезнут. И Ваня пролез через дыру и пошел за ними. Проселок пропадал в голубом мареве, журчал жаворонком, ветерок шевелил волосы, а Ваня все шел и шел.
Его нашли в двух километрах от города, там, где проселок вливался в Горьковское шоссе. Он сидел на краю канавы, гладил рукой сырую травку, смотрел в небо. В небо четко высилась ажурная мачта высоковольтной линии.
— Не взяли, — сказал он хмуро. — Сегодня не взяли они меня…
* * *
Что-то передвигалось, менялось внутри людей и вещей, а потом и люди и вещи исчезали и заменялись новыми, но Ваня не сознавал этого. Он только видел, что на поле с одуванчиками исчез проселок и появилась серая бетонная полоса с белыми столбиками, что автобусы стали длинными и красными, и не одна, а четыре гигантских трубы клубили над городом желто-серые дымы, что самолеты мелькали с грозовым ревом и так высоко, как никогда раньше, что будто в одну ночь на месте старой больницы вырос пятиэтажный корпус с широкими, как витрины, окнами. Он назывался теперь не госпиталь, а больница, и Ваня боялся его, хотя туда ходила на дежурство сестра, потому что помнил, как зачем-то крушили чугунным ядром кирпичи коридорчика, где месяц за месяцем часами сидел он перед топившейся печкой, где стояла койка Сапера, а потом поставили титан с кипятком и кружкой на цепочке. Ядро крушило в облаках кирпичной пыли все, к чему он привык, как к дому. Зачем? Исчез пустырь, где осенью в бурьяне возились желтогрудые синицы, а в глинистых ямах стояла дождевая вода, исчезли тропки в лопухах, по которым он ходил, люди, которых встречал, кошка с кухни белая с черным. Куда? Часами сидел он теперь на лавочке возле оставшегося от сноса флигеля и смотрел мимо всего и вверх, в тучи.
В главном корпусе по воскресеньям показывали кино, но сестра никак не могла заманить туда Ваню.
— Ты ведь в кино мальчишкой ходил? Да? Ки-но! Ну, помнишь?
— Нет…
— Ну для меня сходи. Что ж я все одна хожу, а там, может, и понравится тебе. А?
— Не люблю я его.
— Кого?
— Корпус этот. Новый.
— Почему?
— Там известкой пахнет. И ножиками.
— Какими еще ножиками?
— Которыми людей режут…
Но все-таки раз она его уговорила.
В маленьком зале было тесно от чужих мыслей и глаз, пахло паркетной мастикой и больничным бельем. Больные рассаживались с веселым гулом, выскакивали смешки, кашель, слова: «Итальянский? Это я смотрел…. Нет, наш… Дядя! Сядь пониже!.. Маруся — место есть!.. Тихо, вы!»
Засветился квадрат в стене, тихо застрекотало что-то будто знакомое, зажужжало, Ваня втянул запах нагретой кинопленки, замер, но степь в квадрате горела без жара и запаха, громыхала бессмысленная музыка, черные куколки бежали куда-то, потом все закрыло огромное резиновое лицо, блестящее, подкрашенное, оно пело непонятно и фальшиво, и много женщин с голыми плечами шлепали в ладоши и показывали всем белые зубы.
Читать дальше
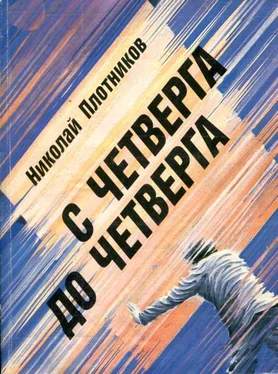
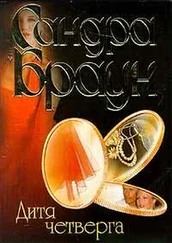



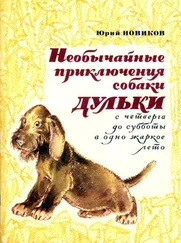



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


