С минуту он сидел не шевелясь, растерянно щурясь на кончик графита. Записывать он ничего не стал.
* * *
Рябой солдат выписывался. Он обходил койки, за руку прощался с соседями по палате. Гимнастерка с двумя колодками обтягивала его круглую грудь.
— Бывайте, хлопчики!
— Куда ж теперь?
— Мне еще месяц дали. К матухе смотаюсь. В Харьков.
Он заглянул в ординаторскую, чтобы попрощаться с сестрами. В ординаторской на клеенчатом диване сидел Ваня и грыз сушку. Сестра Козлова и хирург — завотделения — Полина Абрамовна стояли спиной к двери и разглядывали ленту кардиограммы. Рябой поколебался, усмехнулся, просунулся боком.
— До свиданья, девушки! — сказал он весело. — Отчаливаю!
— До свиданья, Полюхов, — ответила врач.
— Счастливо, выздоравливайте, — сказала сестра. Рябой протянул ей руку. Со стуком упала табуретка, и Ваня, побледневший, с открытым ртом, загородил сестру.
— Не надо! — крикнул он.
— Ты что это?
— Ты что, Ваня, Ваня!
Но он пробился сквозь родной голос — он кинулся и вцепился в пульсирующий клубочек, затаившийся за рябой ухмылкой, он рванул гимнастерку, оторвал карман. Рябой толкнул его на диван, отшвырнул ногой табуретку, матерясь, затопал прочь по коридору. Врач побежала за ним, а сестра нагнулась и подняла с полу сложенную квадратиком десятирублевку, крикнула:
— Полюхов! Погоди! Он же больной… Вы деньги обронили! — Она обернулась к Ване. — Сдурел ты, что ли!
В ординаторскую молча вернулась врач, хмуро сказала:
— Придется его в палату перевести. Это, вероятно, после шока. Ну, что еще у вас там?
Она смотрела на раскрасневшуюся растрепанную сестру: развернув десятку, та впилась в нее ненормальными глазами. — Ну, что с тобой теперь, Козлова? — повторила врач недовольно.
— Полина Абрамовна! Это ж — мои деньги! Вон — зеленкой край испачкан. Я ж их во вторник Петру Родионычу дала. Долг отдавала. А в среду его убили. Господи! Долг отдавала!..
— Откуда же они здесь?
— Да у этого рябого из кармана выпали. Когда Ваня ему гимнастерку порвал. Бегите за ним, Полина Абрамовна, его остановить надо, что ж это делается!
— Я сейчас позвоню, — жестко сказала врач и сняла трубку.
Рябого задержали на станции Долгопрудная Савеловской железной дороги ровно через двое суток.
* * *
В мае отколупали старую замазку и открыли одно окно в палате выздоравливающих. Сырой травяной холодок смахнул соринки с тумбочки, прошелся по затхлым простыням. Старый Сапер весело погладил культю, впрягся в костыли, просунулся к подоконнику. На заборе сохло цветное женское белье, на кухне гремели бидонами, лениво переругивались поварихи. Подошел по двору Ваня. Он был побрит, чисто одет в старенький китель. Этому всему его научила Люда.
— Принес? — спросил Сапер.
— Принес.
Каждый день перед обедом Ваня приносил ему из ординаторской сегодняшнюю газету. Как это делать, его никто не учил. Сапер достал очки, к которым никак не мог привыкнуть, смущаясь, надел их, облокотился, читая заголовки.
— Сеют и сеют! — вздохнул он. — Победили и сеют. А мы тут окопались…
— Кого победили? — спросил Ваня.
— Фрицев, кого ж еще. Гитлера, заразу ему в… Эх ты, милай!
Ваня хотел отойти.
— Нет, ты погодь, постой. Ну, ты пойми все же: война кончилась. Шабаш! Вой-на! Не разумеешь и теперь?
— Брось, Сапер, — сказал безрукий капитан с угловой койки. — Он и в День Победы не понял. Помнишь, как он стоял? Все веселы — и ему весело. А почему, зачем — ему и невдомек. Но Сапер не унимался.
— Вот, смотри, — говорил он Ване, похлопывая по своей культе. — Была и нету. Это — война. Понял, глупой?
— Не… А кто ж ее отрезал?
— Немцы отбили.
— А зачем?
— Эк тебя носит! Зачем! Начальство приказало. Фашисты.
— А они б не слушали, — сказал Ваня упрямо.
— Поди не послушай! А к стенке? Чик — и нету. Понял?
— А я б не стал, — тихо, упорно сказал Ваня. — Все равно не стал.
— И я б не стал, да коровы жалко! — подмигнул Сапер. — А он — стал. Вон рябой — своего врача-то и то… Иные-прочие любят это самое — кровь пущать… Чего ты понимаешь!
— Это я понимаю… — тихо ответил Ваня, и все в палате на него посмотрели.
— Он другой раз правда понимает, — сказал безрукий капитан. Сапер кивнул. Его костистое лицо было обветрено, обыкновенно, но сквозь трещину в груди через халат просвечивало прохладное ночное небо. Это не удивило Ваню, хотя был майский день. В серебристой звездной пряже медленно проплывали туманности добрых мыслей. Трещина проходила через грудь, голову, потолок палаты и терялась над поседевшей макушкой в бездонной синеве. А голобородое крестьянское лицо было хитровато и непроницаемо.
Читать дальше
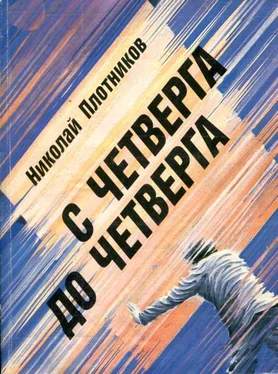
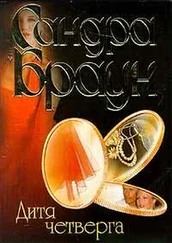



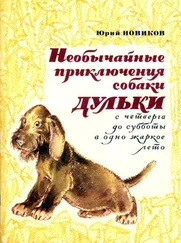



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


