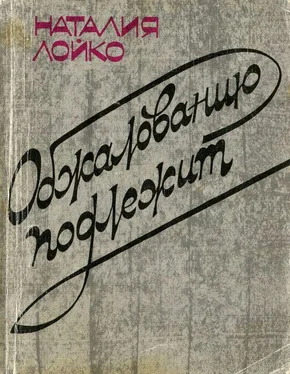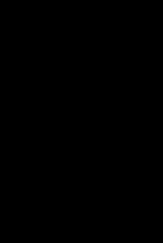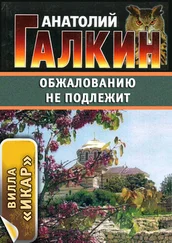Письмо начиналось без обращения: «Имей совесть, оставь моего сына в покое». Стало быть, писал не тот «золотой», кого природа наделила вялой линией подбородка. Не диктовал, не писал, но беспрекословно доставил по назначению. «Ловко ты его окрутила, по молодости попался, лопух. На год восемь месяцев моложе тебя. Не жди Митю больше, не надейся разжалобить. Ты меня, милая, знаешь, я за сына родного горой постою. Вчера самолично беседовала с врачом из вашей палаты, Митяй представил, будто я тебе мать. Сергей Петрович по праву выложил, как оно есть. Небось сама давно уж пронюхала, что даже не раком больна, а чище того — саркомой. Таишь, что все внутренности начисто заменили. Скрытная ты, всегда и прежде отмалчивалась. Теперь отступись, не терзай зазря человека, не пользуйся его слабым характером. Не жилец ты на этом свете. Спаси бог долго мучиться, не дозволяй персоналу выгадывать на уколах. Чего врачи пропишут от боли, того и требуй, теперь повсюду обман. На том прощай. Про Митю забудь».
Попытку Оксаны проявить сострадание Зоя категорически пресекла. Похоже, казнила себя за излишнюю откровенность. Натянула на голову одеяло, желая отгородиться от недоброго мира. Если доводилось высунуть пряменький нос, взглядов на сторону не кидала.
Весь день перемогалась втихую. Волю слезам дала лишь после обхода, после выключения света в палате и приказа «спать, спать!». Плакала сдержанно, приглушенно, опять же таясь от людей, в том числе от Оксаны, которой доверилась под горячую руку. Оксана помалкивала, но ее сердце отзывалось на каждый уловленный всхлип.
При утреннем профессорском обходе, когда все, кроме Зои, нацепили на себя головные «монашеские» уборы, Яков Арнольдович прежде всего направился к ней. «С чего у вас, голубушка, подскочила температура?»
Велико разнообразие жизненных ситуаций на нашей грешной земле. Кем-то сказано: нет такой ямы, над которой не сияло бы солнце.
Ежевечерне в больничном саду наблюдалась удивительная для данного месторасположения, хватающая за сердце картина — нескрываемое счастье двоих. Простодушная парочка вызывала одновременно и уважение, и острую жалость; отсюда общее стремление оберечь ее. По негласному сговору за ними двумя закрепили стоящую на отлете, прилегающую к внешней ограде скамью. Была она обшарпана не меньше других, зато замаскирована основательней. Скамью обступала густая посадка боярышника, сверху, как бы неся охрану, склонил дымчато-зеленую крону молоденький вяз. На деревянных сиденье и спинке подрагивали узоры — отражение трепета распускающейся листвы. Главное очарование данного уголка заключалось в колдовской его миссии — быть приютом наивной юношеской любви.
Парочка, пара… Как выглядел он, если прикинуть на глаз? Рядовой рабочий парнишка. Держится независимо, разве что иной раз во взгляде просквозит растерянность, беззащитность. Прикатывал на свидание к ней непосредственно с завода, со смены; прямиком из-под душа, о чем сообщали не успевшие высохнуть вихорьки. Неизменный транспорт — видавший виды велосипед. Можно было не сомневаться, юноша гнал по улицам своего железного скакунка, не жалея ни его, ни собственных сил. Зато в больничный сад в паре с велосипедом входил неторопливо, с некой долей торжественности. Сумка через плечо, предназначенная, похоже, для инструмента, всякий раз хранила что-либо вкусное, добытое, разумеется, не браконьерским путем. Из верхнего кармашка спортивного покроя тужурки частенько выглядывали три-четыре венчика скромных цветов, призванных оживить скучное серое одеяние, хотя она и без прикрас была на редкость мила: худенькая, прозрачная, отягощенная толстой темно-русой косой, старательно заплетенной к ожидаемой встрече.
Их посетительский час длился куда дольше часа. Сидели неотторжимые друг от друга, пальцы нежно переплетались. Ее тонкие, восковые, его загрубелые, крепкие. Сидели и шептались. Порой замирали в молчании. Издали казалось, вовсе перестали дышать. Наблюдающие за ними задавались вопросом: соображают ли несмышленыши, в какой степени беспощаден ее недуг, насколько зыбко их превеликое счастье?
Вряд ли соображали, вряд ли придавали значение. То, что между ними вершилось, ставили превыше всего.
«Несмышленышей» приметила выпущенная наконец-то на воздух Ангелина Самсоновна. В первую же свою прогулку она пристроилась вместе с Оксаной на бетонном ободе бездействующего фонтана. Порадовалась чириканию воробьев, их вертлявым головкам; сорвала веточку вереска; сидела, жадно вбирая в себя запахи травинок, земли — одуряющее дыхание природы.
Читать дальше