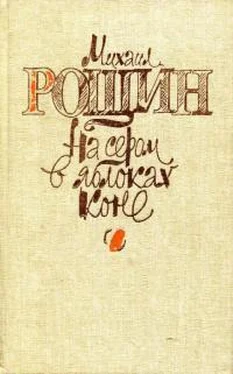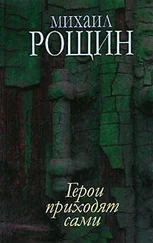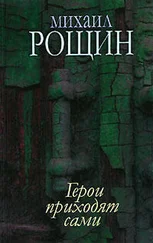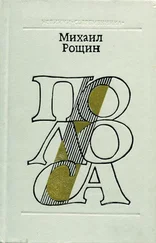Вообще-то тоже долго, конечно, да еще пока место найдешь, шайку, а Петруха еще пар любит: в мыльне народу, как не знаю где, а в парилке и вовсе, пар редко, только в субботу бывает — в общем, долго. Но все же с женским не сравнить. Если вместе идем, то мы с Петрухой, бывает, уже выходим, а мать с девчонками только до старухи дотопают.
У них волосы длинные, и стирают они там, в бане, — вот это отчего.
Опять же девчонки: матери, например, до себя еще Нинку надо вымыть с Люськой да постирать о них. Долгая история. Три-то часа — это железно.
А я люблю дома один. Свобода. Делай, что хочешь. Никто не орет, не ругается, не мешает. Мне так люди надоели, просто смерть! В школе мы по трое на парте сидим, дома мать, Нинка, Люська, Петруха — мой брат старший, он на «Серпушке» работает, да еще бабка с нами жила, все болела, болела, осенью померла, слава богу! А еще Ивантеевы, собаки! А еще целый день по очередям по этим стою — эх, и надоело!
Поставил я на самый верх, на открытую заслонку валенки сушить, сам в носках хожу. Печка у нас в комнате сложена, у Ивантеевых тоже так, хотя на кухне общая плита есть. Через комнату — веревки, на веревках белье сохнет, бьет мокрым по морде: Петрухины черные от завода подштанники, материна юбка, простыня рваная, посеклась вся от старости. Печка потрескивает, на печке синяя полуведерная кастрюля, а в ней вонючий рубец, как животный какой: буль, буль.
Я послушал немного, подождал, не вернется ли кто, и давай шуровать.
Мать думает, мы не знаем, где у нее что лежит, а мы знаем! Мы поели только что, но все равно жрать хочется, и главное — вкусненького бы чего! У матери наволочка есть такая, вся перевязанная, как вьючный тюк. В один угол гречка насыпана, и завязано, пузырь получился, вроде рыбьего, в другой угол — пшено, третий пузырь — соль, а последний — сахар. Она эту наволочку то за печку спрячет, то в чемодан, то в комод, а один раз Петрухе в ноги в кровать засунула. Но мы найде-о-ом!
Я пошуровал, пошуровал и мигом нашел! Надо же, куда заткнула! Где пальто, телогрейки висят, там внизу ящик стоит со всяким старьем, туда засунула, ишь ты! Но мы найде-о-ом!
Взял я большую ложку, приготовил, сел прямо тут, на ящик, примостил наволочку на колени, пощупал, где что, чтоб не перепутать, стал разматывать.
Сначала гречку размотал, руку запустил — гречка там теплая, живая и пахнет хорошо. Люблю! Зачем только ее варят, сырая даже лучше. Вытащил жменю, набил полон рот, сижу, жую. Мать нам сроду не доверяет гречку перебирать: обязательно ополовиним, потом кашу варить не из чего. Но это ладно, гречка — что!
Теперь надо гречку замотать, а сахар размотать. Да узелок сделать такой же, как у матери. Если узнает, то можно, конечно, отпереться: не трогал, мол, знать не знаю, без меня, что ли, мало народу? Но если немного взять и завязать, как было, то и совсем безопасно, не заметит. Она обычно берет весь мешок сразу в руки, ощупает, повешает на ладонях и на нас поглядит: лазали, мол, или нет? А сама, значит, не чувствует, сомневается. А если много взять или завязать не так, сразу прищучит. «Я, паразиты, вам же, проклятые, берегу! Ненажоры! Век бы вас не видеть!» И пойдет!..
Я решил сахар размотать, ложку отсыпать, а потом еще гречки пожевать немного, потому что сейчас она мне весь рот забила, дышать тяжело, а потом-то опять захочется. Гречки побольше, чем сахару, незаметно будет. Поэтому я не стал сразу гречку заматывать. Одной рукой зажал пузырь с гречкой, другой сахар разматываю, мешок коленками вверх поддал и зубами помогаю.
В это время рубец на плите как булькнет — я чуть мешок не выронил. Ах ты, проклятый! Но стал дальше развязывать. Потом вдруг чувствую: что-то не то. Спохватился и прямо похолодел: не ту тряпку размотал, слышу, гречка прямо из-под руки уходить начинает. Куда? В сахарное отделение. Ах, ёкэлэмэнэ! — как Петруха скажет. Зажал скорее это место, где у них слияние, у гречки с сахаром, откуда я тряпочку-то стянул, и сижу, не знаю, что делать. Как вот теперь? Эту руку отпустить нельзя и эту нельзя. Вот петрушка. А самому уже представляется, как там гречка в сахар втекла и все перемешалось. Хоть плачь, честное слово! И помочь некому, один проклятый рубец на весь дом.
Но потом я встал, потихоньку мешок на ящик пристроил (ящик мягким застелен) и, не отнимая одной руки, начал гречку из ее пузыря ссыпать на ящик, на старый плюшевый обносок, — скатерть это, может, была или коврик.
Высыпал.
Теперь дыру к сахару открыл, вижу, действительно, много гречки перешло, но все-таки не очень. Стал потихоньку выгребать — гречку с сахаром. Щепотку наберу и в рот. Потом еще. Потом по зернышку.
Читать дальше