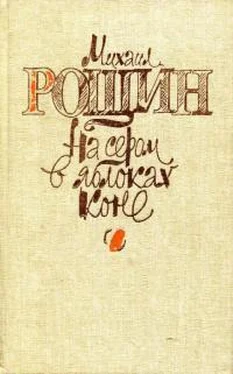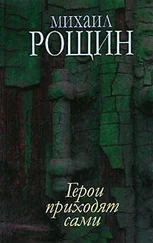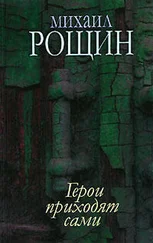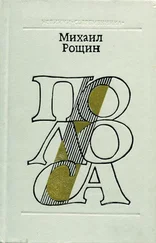«А как же?» — повторил я про себя. А что «а как же?», почему «а как же?», черт его знает…
8
Дурацкая зима — снегу почти нет, но холодно, ветер, гололед. Я вместе с остальной толпой — народу много, все со смены, — жду на остановке свою «двойку». Темно, фонари давно погасили, только светятся позади голубая стеклянная витрина гастронома да пустые телефонные будки. Вспыхивают светофоры на перекрестке. В глубине витрины разноцветно горит огоньками крохотная елка. И еще там муляжная колбаса. Сейчас бы кусок колбасы с булкой. Мою куртку насквозь пробивает ветром, перчаток у меня нет. Где этот проклятый трамвай? Надо бы попрыгать, но я так устал, и так хочется спать. Я все время сплю: приеду домой, поем — и спать, даже в цехе в обед ухитряюсь прилечь на подоконнике и сплю — хоть двадцать минут, хоть десять. Никогда в жизни так не уставал.
Где же трамвай, а то сяду сейчас на корточки, привалюсь к столбу и засну. Ноги гудят, и в руках дрожь, будто я продолжаю сжимать рукоятки станка. Только теперь, когда мне дали разряд и я уже не ученик, я узнал настоящую работу. Нас завалили. Конец месяца, конец квартала, конец года. Аврал. Теперь у нас не две смены, а три. Я сейчас приеду, высплюсь после вечерней, а завтра снова выйду в утро. Никаких перекуров, хождений, разговоров, ни одной свободной минутки. В уборную бежишь бегом. И главное, все появилось: и сталь, какая нужна, и инструмент. Даже начальник цеха весь день на глазах, а бывало, неделями его не увидишь. Сегодня Лена сама разносила из инструменталки сверла, а Пилипенко и Секундомер развозили на тележке заготовки — вот до чего дожили. Я еще когда, помню, говорил о тележке. Всё умеют найти и организовать, когда надо, когда прижмет. Давай, давай!
Вот, слава богу, наконец, трамвай тащится. Все вокруг задвигались, сбились теснее. Трамвай подошел. Витрина, колбаса, елка… «Жми, жми!.. По одному! Куда прешь?» Влезли. Я плюхнулся на свободное место, мне далеко ехать, и поскорее закрылся воротником, отвернулся к окну, чтобы никому место не уступать. Вот какой обезьяной стал. Но если какая-нибудь женщина появится или старик, все равно встану, не усижу. Но пока вроде одни парни рядом. Ладно, поехали. Витрина, елка.
Я прикидываю, сколько получу к Новому году денег, — выходила небывалая сумма. Но зато мы и работаем. Мы так работаем, что ого-го! Сегодня мы с Титковым стояли на обдирке в опытном — там тоже зашиваются не хуже нас, грешных. Мы не разгибались всю смену. Я даже не поглазел на свой любимый опытный, как всегда, — некогда.
Титков работал голый по пояс, спина и плечи мокрые, волосы на голове тоже мокрые от пота, как после бани. Мастер подошел, говорит: оденься, не положено, стружкой обожжет или еще чего. Титков, который перед всяким начальником — руки по швам, только оскалился, даже ладони с рычагов не снял. Он здоровый, как бык, и то взмок, а я в два раза тоньше — вот и сплю теперь. Но он только на плитку меня обошел. У него было семнадцать за смену, а у меня шестнадцать. Ну и деньки!
Трамвай бежит быстро, колышется из стороны в сторону, колеса бьют. Я совсем сплю. Сплю, а перед глазами все мелькает и мелькает облитая эмульсией фреза, летят белые дюралевые стружки. А вчера я запорол одну штуку. Шесть часов провозился и запорол. Дмитрий Дмитрич чуть меня не загрыз, и Гриша тоже подскочил: «Что ж ты, так тебя, делаешь!» Я сам готов был стукнуться башкой о станину, и они еще навалились. «Ну хорошо, хватит!» — сказал я грубо. И метнул эту проклятую железку — отличная была железка, похожая на маленькое лекало, уже отшлифованная по одной плоскости, тонкая и еще теплая, — я метнул ее в ящик со стружкой и пошел за новым куском стали. Начал все сначала, а Дмитрий Дмитрич являлся ко мне через каждый час.
Я сплю, трамвай гремит, народу все меньше. Не проехать бы. Я достаю из-за пазухи книжку. «Между тем вследствие благоприятных известий из Польши Петр решился оставить Пруссию и ехать дальше на запад. К нему навстречу спешили две образованнейшие женщины Германии: курфюрстина ганноверская Софья и дочь ее, курфюрстина бранденбургская Софья-Шарлотта…» Мелькает фреза, летят белые стружки… Перевернул страницу, а что прочел — не помню. Я уже вторую неделю читаю заграничное путешествие Петра и не могу сдвинуться с места. Да, курфюрстины принимают молодого царя. «Очень люблю кораблеплавание и фейерверки». Он показал свои руки, ставшие жесткими от работы.
Я тоже люблю кораблеплавание — то, что мы делаем у себя в цехе, у себя на заводе, плывет потом по всем морям и океанам. Я еще не видел моря никогда. И кораблей и фейерверков. У меня руки тоже стали жесткими от работы. Сухие и твердые ладони. Я еду домой. Завтра вот так же, еще в темноте, до рассвета, я опять буду трястись в этом трамвае. Я не могу читать. Я сплю. Мне навстречу спешат две образованнейшие курфюрстины, одна просто Софья, а другая Софья-Шарлотта, ее дочка. Симпатичная такая девчонка с белыми буклями и в платье колоколом. Я показываю ей свои жесткие от работы руки. Она говорит, что это ничего. Она машет веером. Я просыпаюсь, потому что книга валится на пол, мокрый и грязный решетчатый трамвайный пол. Я приникаю к темному стеклу. Слава богу, не проспал, моя следующая.
Читать дальше