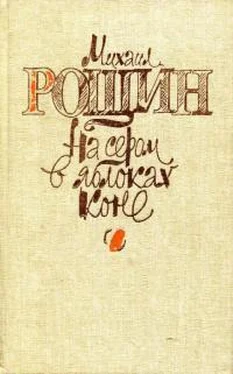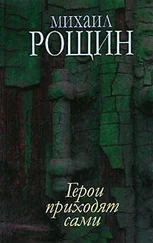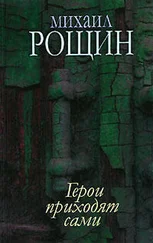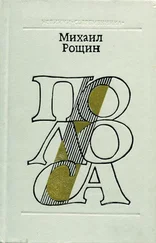Но все-таки на работе легче, день уходит, от шести до шести с дорогой, а вечером такая возьмет тоска — сил нет. Хата у тетки Натальи хоть и крепкая, но старая, свой, прогорклый, чесночный дух скопился в ней от веку; в пристройке, вместе с курами и поросятами, с племянницей-дурочкой лет сорока сама тетка Наталья, тоже ненормальная, шумная, хоть и добрая, — она, люди говорят, сдвинулась, как трех сыновей с войны не дождалась; в хате, в большой горнице, живут шофер Бородин из Сибири с женой Шурой и пятилетней дочкой Светой, а в маленькой я и демобилизованный плотник Коля Тюнин. Я сплю на раскладушке, а Коля на диване. И теперь все мои мечты уступили место одной: чтобы Николай ушел в новое общежитие, которое строят на поселке, а я переселился бы на диван и занял целиком эту комнатку с одним окошком. Водопровода нет, воду возят автоцистернами, как в пустыне, свет дают только с шести до десяти, да и то не всегда, за продуктами все ездят в город, за шестнадцать километров, кино нет, клуба нет, — как и зачем живут здесь люди, я понять не могу. Но пусть, это их дело, но я-то зачем? Уже все ясно: денег мне здесь не заработать, разве что на жилье да на хлеб; никакой квартиры, кроме этой комнатенки, тоже не увидишь лет пять, желающих — тысячи. Ни этот неказистый Октябрьский среди голой степи, без единого деревца, ни работа, ни люди, — за что она меня так ненавидит, Ольга Кайдук, корова? — ничто не привлекает меня и не удерживает, — словом, ошибка, глупость, и надо бы скорее исправлять ее, ехать куда-то еще, — или не ехать, тоже глупости, в Москве, что ли, нельзя работу найти, но как, как? Ведь она ждет, она настроилась, ей представляется все иным, подаришь мне букет цветов. Ей важно уехать, бежать, пока никто ничего не узнал, все выдержать, выстоять, самим справиться, чтобы потом, когда-нибудь, вернуться гордо и сказать: ну, что, чья взяла?
Грустно.
Но вот другое утро, выходной, я проспал до девяти — счастье, и еще лежу-полеживаю, потягиваюсь, в окно весело бьет, хоть и зимнее, но уже веселое, февральское солнышко. Скоро март, весна, апрель, глядишь, и перезимовали. Сосед Бородин колет во дворе дрова. Николай уже уехал, он в город собирался, диван его по-солдатски убран, и в головах стопочкой лежат постель и подушка. Да, сквозь сон я просил его и мне купить в городе колбасы и конфет-подушечек. Шумит по двору тетка Наталья, громко тараторит, то ли с курами, то ли с Бородиным. В доме пахнет стиркой — это Шура Бородина целыми днями стирает и стирает, будто она прачка, а муж у нее не шофер, а дипломат и ходит в крахмале. Эта молодая долговязая Шура, с длинными руками и ногами, сутулая, вызывает у меня не ясный мне интерес: некая тайна привлекает меня в ней, она спит в соседней комнате за стенкой, и иногда, когда что-то стукает в стенку, я знаю, что это Шура ударила своей костлявой коленкой или рукой. Я чувствую, что смотрю на нее странно, и она отвечает тоже неожиданным, спрашивающим взглядом исподлобья. Только этого мне еще не хватало. Я боюсь остаться с ней в доме вдвоем и даже сейчас лежу и боюсь, что она войдет вдруг и станет в дверях со своим вопросом в глазах.
Но это, конечно, только мое тело, мои глаза и уши находятся в этой комнате, в запахах чеснока, стирки и старого дивана, — сам я, как голубь, ношусь над Москвой. Я плохо работаю, невнимателен, не вхожу ни с кем в контакт, подавлен и замкнут только по одной причине: все мои мысли там, дома. Как ни странно, чаще всего видится мой институт, где я проучился лишь семестр: двери, раздевалка, лестницы, старинные окна, аудитории; я был там как рыба в воде, сразу, с первого дня, мне там было хорошо, — наверное, поэтому институт и вспоминается так часто, — даже не хорошо, а легко. Сегодня выходной, я мог бы заехать к Мишке — его квартира тоже весело встает перед глазами, наша с Алиной маленькая жизнь там осенью… Бедняга, она не представляет себе этой хаты, этой комнаты, нарисовать ей, что ли, с подробностями, со всеми запахами. Вот здесь она, значит, спит, вот сюда поставим детскую кровать, там, на кухне, она будет стирать вместе с Шурой и лепить вареники? Нет, что-то не верится. И главное, непонятно, из-за чего, из-за каких таких причин нужно нам это терпеть? Не понимаю, хоть убей. Чтобы любовь нашу сберечь? Но не развалится ли она здесь в два месяца, как разваливаюсь я? Не придумываем ли мы себе лишние трудности? Все дело упирается в ребенка? Но может быть, в таком случае, не нужно ребенка? Успеем еще. Что-то даже первобытное в этом: сразу ребенок, люльку качать, «рожать детей — кому ума недоставало»! Но она ведь сказала: не буду ничего делать. И не будет, я же ее знаю. Разве я могу ее обмануть?.. Я достаю из-под подушки ее письма в голубых небольших конвертах — я читал их вечером, при керосиновой лампе. Теперь снова перечитываю последнее письмо, но в глазах рябит и снова будто клонит в сон. Как я могу рассказать ей обо всем, убедить? Пусть сама приедет и увидит. А может быть, и не испугается, может быть, наоборот, нам станет легче вдвоем, веселее, — живут же Бородины и даже довольны, и девчонка бегает целый день на свежем воздухе… Ладно, не дал слова — крепись, а дал — держись, видно, уж такая судьба: не великая гидростанция на Волге или Амуре, не прорабом и инженером, а в степи, на ТЭЦ, да еще бетонщиком, почти чернорабочим, дурачком. Не в итээровском особнячке, с лыжами в руках на крылечке, с юной женой в лыжной шапочке, а в тетки Натальиной хибаре, на бордовом диване.
Читать дальше