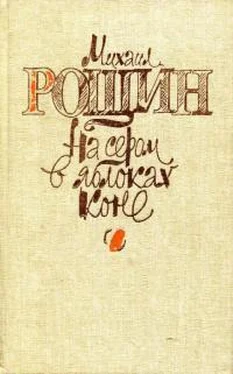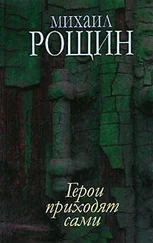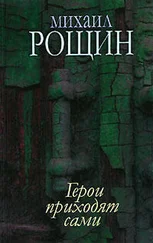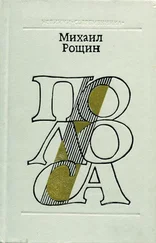Вошла Шура, стала на пороге, я испуганно одеяло натянул до горла, смотрела молча, потом спросила: «Ты что красный?» — «Красный?» Я приподнялся заглянуть в диванное зеркало, стал коленями на раскладушку. Она ушла и принесла градусник. Тут я почувствовал, что действительно горю, и горло саднит. Шура не уходила, мы молчали, потом раздались шаги, и в кухне Бородин свалил у печки охапку дров. Тетка Наталья так и заливалась на улице. Температура у меня была тридцать восемь, к вечеру тридцать девять, а еще через сутки «скорая» отвезла меня в город в больницу с воспалением легких…»
«…Какая была несусветная глупость! Случайность, оплошность, неопытность, и вот, пожалуйста, что может из этого выйти. Я спохватилась еще в институте: где письма? Я всегда носила их с собой. Где они? Я вывернула портфель, но уже знала: их нет. Я читала письма вчера вечером, запершись в уборной, больше мне негде было остаться одной, и, когда бабка постучала, я сунула письма под коврик, мол, на минутку, сейчас возьму обратно. И не взяла!!! Это бабка, бабка проклятая, со своей слежкой, так и ходит по пятам, говорит, говорит, ворчит, вынюхивает. Только бы не нашли, только бы не попали к ним в руки! Они не постесняются, прочтут. Боже, что там написано, какие слова, какие подробности, нежности, мы дураки, дураки, безумные дураки, дети! Представить себе только, что это читают чужие глаза, трогают чужие руки! Скорей!.. А если нашли? Как не вовремя! Ведь совсем немного осталось, я бы уехала потихоньку, и все — ищи-свищи. Неужели нашли? Вечно этот коврик елозит под ногами, задирается, Валя начнет мести, понесет его вытряхивать на балкон, — ох, дурно, жарко, кровь бросается в голову от одной мысли… Тихо, тихо, спокойно, мне нельзя волноваться, спокойно. Во-первых, сказать невозмутимо: как вы смели читать чужие письма? Во-вторых, все отрицать: ничего этого нет, это его фантазии… нет, там такое написано, что не отопрешься, это глупо. Ладно, во-вторых, сказать: да, все так. И будет так. Если вы люди — помогите, если звери, — не лезьте, не мешайте, справимся сами. И не говорить больше ничего, не скандалить, сказать и молчать, как на пытке. Как мать меня в детстве хлестала собачьим поводком, а я даже слезинки не уронила, вот и теперь так. Сидеть и говорить себе: волноваться вредно, волноваться вредно. Пусть орут, оскорбляют, а я одно: волноваться вредно, волноваться вредно.
Во всех подробностях помню тот день: как я боялась, как тянула, как звонила бабке из института разведать, что и как, и слушала ее голос, стараясь по одному ее скрипучему «Вас слушают» (она ненавидела слово «алло», как и вообще все американское, «дэмократыческое», как она говорила) понять, в каком она состоянии. Понять было трудно, но мне казалось: она понимает, что это звоню я, и зачем звоню, и показывает мне, что понимает: я слышу, что это ты, но что ж я могу сказать тебе? я убита — и все.
Снова и снова, в десятый, в двадцатый раз перебирала я в памяти: как сижу, как читаю, как сую беленькие, одинаковые конверты с красной марочкой, с его крупным веселым почерком, перетянутые светлой аптечной резинкой, под этот, — сказала бы я, какой! — коврик, — ах, черт возьми, черт возьми, и на старуху бывает проруха, на всякого мудреца довольно простоты, — теперь они уже и чемодан мой растрясли, а я туда напихала потихоньку и материнского, и Ольгиного, — ох, стыд, стыд, еще и воровкой обзовут — не пожалеют. Вот тебе, Петр Великий, и Полтавская битва! Слезай, приехали! Хоть бы ты был со мной сегодня, хоть бы ты, что ж я одна в этом городе, со своим пузом, со своим несчастьем.
Что вот мне делать, как я туда явлюсь?
Сердце мне подсказывало, что письма, конечно, у них, не может быть такого чуда, да и мать, кажется, взяла сегодня работу домой, да, наверняка они им попались, наверняка. Ну что ж теперь, противник получил неожиданный шанс, придется менять тактику. Но не стратегию.
Я все-таки дотянула до вечера и приехала домой в восемь часов. Мне не сразу открыли, я поняла, что за дверью какая-то подготовка, и Валя встретила меня, глядя ошарашенно, чуть не с открытым ртом. «Приветик! Ты что? — сказала я ей мрачно. — Дай, пожалуйста, тапочки, а то ног не чую». Она бросилась, подала, глядела жалостливо, не смея ничего сказать, и я все поняла. Я раздевалась, снимала боты, причесывалась у зеркала, а сама слушала: что в доме? Хотя все уже ясно стало. Обычно бабка уже висела надо мною, прошаркав сразу на мой звонок и задавая глупые вопросы, она все время спрашивала, что я сегодня получила, какие отметки, забывая, что я уже в институте. Сегодня никто не шаркал, никто ничего не спрашивал, мамина шуба висела на вешалке. «Не волноваться, — сказала я себе, — ребенку это вредно», — и пошла на эшафот.
Читать дальше