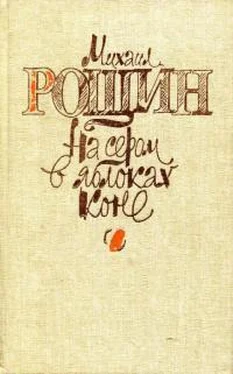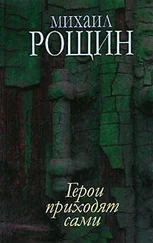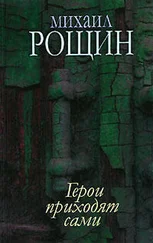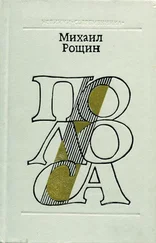Но что нам говорить о чистоте? Мы росли без ванн и горячей воды (а то и вовсе без воды), носили все одну и ту же одежонку, до полного ее износа, мылом мылись хозяйственным, в ботинках вечно хлюпала грязь. «Надо долго хорошо жить, — писал Герцен, — чтобы привыкнуть к чистому белью». А мы долго жили плохо.
Ну вот, сядем в своей затрапезной одежонке за хрустящую скатерть и придвинемся вместе с краснодеревым сиденьем, которое и стулом-то не назовешь, к пугающему овалу стола. Золотом и синью бьют в глаза тарелки с ровно-волнистым краем, фамильные салфетки с бахромой стоят, как треуголки, как присевшие на песок белые птицы, а обыкновенные ложки для супа тяжелы, как пестик от ступки, и глубоки, словно тигли. Это после столовского-то алюминия, вечно жирного на ощупь и перекрученного в середке в спираль чьей-то забавляющейся рукой.
За таким обедом, как ни старайся, обязательно что-нибудь прольешь, опрокинешь от смущения, или какая-нибудь дрянь в горле засядет, и, не дай бог, заперхаешь, квакнешь вдруг, чихнешь, как перепуганная собака, — о, господи!
Мне подавали, принимали за моей спиной, я н о р м а л ь н о себя вел, даже разговаривал, расспрашивал о картинах, сам отвечал на вопросы. Алина немного успокоилась, но все равно глядела напряженно с той стороны стола, спешила, — мол, нам идти, — бабку обрывала. Я очень старался. Надо было и не оскандалиться, и держаться не деревяшкою, и самому, между прочим, оглядеться: ведь это ее дом.
Мало того что бабка устраивала мне экзамен на этикет, она еще и выспрашивала: кто я, что, почему у меня фамилия Шувалов? Я граф?.. «Бабушка!» — осаживала ее Алина почти грубо, краснея на глазах. «А что такого-то? — с аристократической вальяжностью отвечала бабка. — Разве я что-нибудь неприличное спрашиваю.? Твой дед, между прочим, был дворянин. У каждого в роду есть кто-нибудь, о ком не любят вспоминать, но ведь есть, что сделаешь!..»
Я улыбался виновато, я в самом деле никогда не слыхивал в своей семье разговоров о родословной. Но скорее шел мой род не от графа, от его крепостных. «Поразительно! — говорила бабка. — Не знать своих родных даже от второго колена! Кончится тем, что вы и родителей знать не будете! Как из инкубатора. Да ведь и есть, есть уже такие, полно!» — «А ведь это в принципе и не важно», — отвечал я весело, на самом деле так и думая в те свои юные лета. Бабка взглянула на меня вытаращенно, потом удивленно на внучку, потом сказала: «В п р ы н ц ы п е - т о оно конешно. Да только от яблоньки-то — яблочко, а от елки-то — шишка».
Нет, я все-таки неплохо вел тот обед, нож держал в правой руке, вилку в левой. И даже спорил. Но на чем-то я должен был споткнуться, куда денешься. Уже дело шло к концу, уже дали нам на десерт по блюдечку первой, свежей черешни, и Алина с облегчением и одобрением глядела на меня, какой я молодец. Но меня что-то пот прошиб — от напряжения, от обильной еды. И тут я машинально вытащил свой платок — не самый чистый на свете, чтобы обтереть бедный мой лоб. Я, правда, уже в кармане зажал платок в кулак, и так и вытащил, и стал возить им, не разжимая кулака, по лбу, — знаете, как вытираются зажатым в руке нечистым платком?.. Мелочь, но бабке ее хватило. Бабка усмехнулась кривовато: мол, вот твой Шувалов! Алина двинула в ответ стулом и фырком — к черту ваши этикеты!..
И еще один урок преподала мне бабка. Ставила меня на место. Это уже в Никольском, когда я стал ездить туда.
Я приехал из города в жаркий день, шел по пыльной дороге. Может быть, в тот самый, когда бабка варила клубнику, — может быть.
Потом мы с Алиной гуляли — нас уже влек низенький Вшивый лес, юные березки не давали тени, земля стаяла голой, в пучках дикой травы. Мы опускались на нее, безудержно целовались, мучительно желая и мучительно боясь иных прикосновений. Как после этого встретиться с бабкой взглядом?
Потом мы ужинали, потом опять гуляли, навещали Левушку, танцевали у него во дворе под радиолу. Потом уже было поздно ехать, и Алина шепталась с бабушкой, чтобы мне остаться ночевать. Родители на неделе на дачу не приезжали.
И я остался в первый раз, и Алина, возбужденная этим событием, бегала и суетилась по даче, пока бабка не прикрикнула на нее и не загнала в постель в одной комнате с собой.
Мне же постелили на террасе белоснежное ложе, поставили в изголовье лампу, стакан молока, положили кипу журналов, уже прочитанных бабкой. Я впервые ночевал в их доме, вблизи девушки, которую любил.
Я робко разделся, опустился на кровать и, о господи, увидел: ноги мои совершенно черные от пыли, и весь я вообще грязен. Это Вшивый лес, его голая земля мстили мне теперь за нашу там возню.
Читать дальше