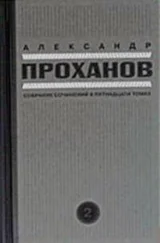Шершнев смотрел мимо Ратникова остановившимися, расширенными глазами, в которых странно пульсировали зрачки, окруженные зелеными и рыжими ободками, словно ловили в фокус удаленный образ, недоступный Ратникову. На его отяжелевшем властном лице, столь не похожем на прежнее, нервное и наивное, играли таинственные отсветы, словно отражение далекого пожара, в котором сгорели минувшие двадцать лет.
— А как твоя милая мама Валентина Григорьевна? — Шершнев совершил усилие, отрываясь от притягательных зрелищ, вновь обращая взгляд на былого друга. — Она была лучшей учительницей в нашей школе. Благодаря ей до сих пор я сохранил интерес и вкус к художественной литературе. Стараюсь читать книжные новинки. Собираю библиотеку.
— Она очень болела. У нее отнялись ноги. Сейчас передвигается на коляске, живет со мной.
— Непременно ей поклонись. Она многим тебя наградила. У меня не было такой образованной, матери.
Ратников видел, как потеплело, умягчилось лицо Шершнева, его губы сложились в мягкую улыбку. Был благодарен старому другу за это обожание матери. Они сидели в полупустом ресторанном зале, и овальные окна медленно гасли, полные вечернего серебра. Волга отражала высокое летнее небо, несла на себе невидимый теплоход.
— Знаешь, год назад я был в Лондоне и случайно встретил твою Елену. Вот так же, в ресторане. Она была с мужем. Представительный господин. Был очень приветлив со мной. Она показала фотографию твоих сыновей. Старший так похож на тебя. Кажется, поступил в Оксфорд. Почему у вас все не сложилось?
— Да кто его знает. Наверное, я не мог обеспечить ей жизнь, к которой она стремилась. Слишком погрузился в мое новое дело, спасал завод, создавал двигатель, рыскал по провинции, каждую копейку вкладывал в предприятие. Был год, когда я продал квартиру, дачу, влез в долги, знать ничего не хотел, кроме моторостроения. А она тяготилась провинцией, мечтала о Европе, о комфорте, о блестящем обществе. Этот новый ее муж, совсем не знаю его, кажется, какой-то богач, владевший Новороссийским портом, нефтяным терминалом, — все это ей обеспечил. Очень редко мы общаемся с ней по телефону, иногда разговариваю с детьми, но как-то отчужденно, как посторонние. Она прислала мне фотографию своего лондонского дома, — дворец, пруды, фонтаны, и два мальчика приклонили голову ей на плечо.
— Все очень странно, мой друг. Невозможно разглядеть из настоящего наше будущее. Даже то, что наступит через двадцать минут. — Шершнев умолк. Лицо его отяжелело, стало гранитным, состоящим из плоскостей и граней, как на картинах кубистов. Странный слиток, в котором расплавился и исчез образ вихрастого изумленного юноши.
— Чем же ты занимался все эти годы? — Ратников старался представить, как пронеслись для друга те двадцать лет, что для него самого были годами непрерывной борьбы, смертельных рисков, упоительного творчества, протекавших на стыке двух разъятых эпох, которые он стремился срастить. Заполнял пустоту между ними своей плотью и духом, кромешной работой, ослепительной бестелесной мечтой, — Ты-то как жил?
— Да всякое было, — уклончиво ответил Шершнев, — Работал с Чубайсом, занимался приватизацией предприятий. Удивительный он человек, — превращен в демона, в исчадие ада, самая ненавистная персона в России, и, неся этот крест, продолжает свою миссию по созданию новой страны, новой экономики, нового класса собственников. Уехал по его рекомендации в Штаты, прошел курсы в Гарварде, учился менаджементу. Были другие поездки. Долго жил в Германии. Наведывался ненадолго сюда. Вернулся окончательно и принимал участие в создании корпораций, в частности, авиастроительной и кораблестроительной. Собирал остатки советских технологий. Вот, пожалуй, и все. Много слышал о тебе, да все не решался приехать. А теперь вот взял и приехал.
— Решил припасть к отеческим гробам? — мягко усмехнулся Ратников, с нежностью и печалью глядя на давнего друга, стараясь переместиться по световому лучу туда, где они были счастливыми юношами, предвкушая восхитительную, им предстоящую жизнь.
— И к гробам, и к церквям, и к Волге, и к нашему Рябинскому морю. Но, главное, хотел увидеть тебя. Хотел понять, освободился я от тебя или нет? — Губы Шершнева медленно раздвигались в длинную улыбку, которая из неуверенной и застенчивой становилась насмешливой, едкой, и все удлинялась, морща кожу щек, обнажая крепкие желтоватые резцы, превращаясь в пугающий оскал. — Сохранил ли ты надо мной свою власть?
Читать дальше
![Александр Проханов Скорость тьмы [Истребитель] обложка книги](/books/411143/aleksandr-prohanov-skorost-tmy-istrebitel-cover.webp)