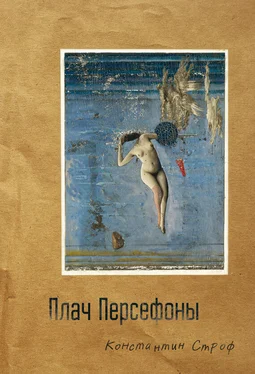Однако появилось знание – недаром первое из зол и пища всех далеко идущих бед в смутно знакомых Нежину мировоззрениях. Обветшалые многодумные мужи взирали на его сгорбленную тень, вея унынием, кляли схороненные доброй волею инстинкты. Неизменно (знать, неизлечимо) во имя обладания пробовали они притворяться невольными. Так скоро ждало их доверие.
2
Он покинул дом, словно зачумленный барак. Он брел по пустынной улице, щекочимый дождем, не замечающий озноба. Проплывали мимо безрадостные пейзажи, хлюпающие и завывающие. Точно так же однажды был покинут – испуганным и униженным – последний приют одной украдкой виденной, неуловимой девочки, чьи внутренние миры так и остались в бесплотных сумерках воображаемого.
Письма, которые он нашел, – горькая грязь их слов, пестрящих пошлостью и завитками в духе рококо, которые хотелось разогнать, словно шествие страдающих глистами, а не накрутить на пальцы кудрями, продолжала греметь, ворочаясь всей своей свалкой в его висках. Силы оставались лишь на то, чтобы продолжать шагать, удаляться прочь от злосчастного, полного прямых углов и поворотов места, переставшего быть его домом.
Не было мочи даже на то, чтобы успевать проглатывать обжигающее, никак не иссякающее в бутылке спиртное – эликсир мнимой свободы, настой послеполуночного тумана. Не стало воли и чтобы заткнуть неумолкающий у самого уха рот. Собеседник – что безвылазно сидел внутри – продолжал наступать, стремясь приблизиться сообразно местному обычаю вплотную, дабы родилось доверие в остро ощущаемых парах слитного дыхания; даже вытянутая вперед рука не остановила его. И главная нетлеющая мерзость – заключительная «А» – фальшивая таинственность, известная по окончаниям бесчестных имен, подпись, а скорее насмешка над неведением одного – первой насыщала его горсти.
Постепенно стемнело. Дождь, чуя безнаказанность и бредя тысячью снеговиков, припустил со всей своей сырой дури. А Нежин вдруг стал, поливая стынущим носом. Все не могло так закончиться. Чем дальше он уходил, тем ближе становился.
Со всей слабостью и малодушием – удержать, как и простить ее, может только он сам. И никто другой. Другой способен лишь отнять и унизить, надругавшись над приобретенной в довесок предысторией. И все же дело обстояло не совсем так. Или совсем не так? Осклизлый краешек оторвался и поплыл, уже став хлипким островом и собираясь обратиться последней надеждой Нежина, смиренно плетущегося берегом.
Вернуться надо было для другого. Чтобы посмотреть в глаза и попытаться найти в них хоть крупицу честности… раскаяния. Или лжи – и принести возмездие, пусть бы даже картонное, упав во весь рост на притворную гладь тяжелой воды, чтобы взмыли в воздух капли жидкой ртути. Если зажмуриться, а затем сразу раскрыть глаза – неизменные спутники глупости, отвердевшие вместе с мраморным телом, – весь мир вспыхивает и шумит в ушах, капая горечью с языка, попутно испепеляя и расплавляя все чужое и неуютное – тебя, Нежин. Тут как тут и Пиладик, хлопотливый прелатик. Как там таких кличут? Привлеки к стынущей своей груди другую – податливую, недавно дорогую и возбуждающую, а ныне – помыкающую и теснящую следами чужих объятий, вступи в пламень и превратись вместе с нею в жидкость, проникающую сквозь поры земли, сгущающуюся и пузырящуюся в глубине, чтобы, слившись, растворить в себе ее целиком, спрятав все следы порочного лживого существования.
Беспечная медуза, не выдержав зова соблазна, посмотрелась в зеркало, вздрогнула от удовольствия и окаменела, успев пустить лишь пару добрых соленых струй.
Пытается улыбаться.
Пилад, опережая собственное, уже находившее не раз окоченение, протянул руку и взял ее за лицо. После воздуха улицы оно проникло в ладонь неприятно теплым и влажным. Могло почудиться, будто случайно схватился в полутьме стойла за опрелое вымя с единственным плотным соском.
– Имя тебе бренность, – произнес с нелепой торжественностью подрагивающий рот под стекляшками глаз.
Не привыкший говорить помногу, теперь он не мог молчать. И продолжал повторять ту же фразу все менее связно. Ольга, перепуганная, сгорбленная, пробовала ухватиться за его шею, но он всякий раз отстранял ее руки, и только приведя в спальню, наконец отпустил и поглядел в освобожденное лицо. И мельком – на телесного цвета трусы. Пальцем указал на кровать; и Ольга безмолвно повиновалась.
На какое-то время она осталась одна. Придя на кухню, Пилад с застывшим взором долго проверял большим пальцем остроту лезвий, перебирая один нож за другим. Страшно жаль было позабытого где-то ружья, уже вселявшего однажды запросто уверенность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу