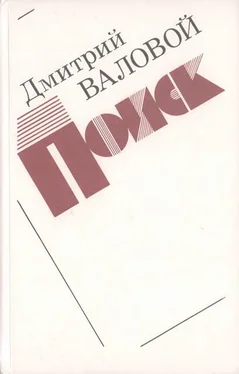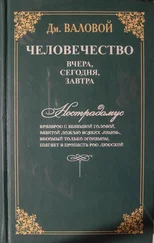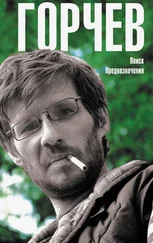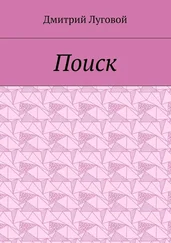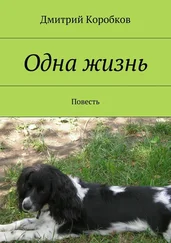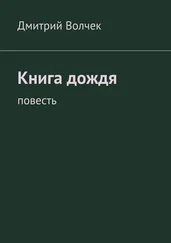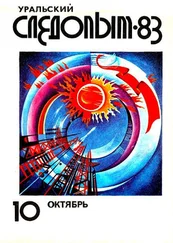Споры о прибыли начинаются, когда речь заходит о ней как об оценочном показателе. Некоторые экономисты предлагают сделать ее главным, или основным, показателем. Чем больше прибыли – тем лучше работает предприятие, рассуждают они. А профессор Бельский идет еще дальше. Убыточные заводы он предложил закрывать, а их имущество «продавать с молотка».
Я лично убежден и много раз об этом писал, что подобные предложения нам не подходят в принципе. Теоретически они необоснованы, а практически вредны. Ведь есть немало путей увеличения прибыли, по которым мы не можем пойти…
– Каких, например? – быстро среагировал Вильсон.
– За счет повышения цен на новые изделия под разными благовидными предлогами, за счет увеличения выпуска дорогих и сокращения дешевых видов продукции…
– Но подобные явления, судя по вашей печати, у вас и сейчас – не редкость. Не так ли?
– Совершенно верно. Но это делалось за счет срыва задания выпуска продукции в натуре и ассортименте, что было грубым нарушением. Мы это осуждаем и критикуем. Сделать прибыль главным показателем – значит узаконить эти явления, сделать их правилом.
При капитализме цель оправдывает средства. Ради прибыли идут на все – на разорение конкурентов, повышение цен, взятки, шпионаж и прочее. И это понятно. С прибылью богатеют, а без нее владельцы капитала разоряются и пополняют армию наемного труда. В условиях нашего общества нужна только реальная прибыль – та, что получена при строгом соблюдении выпуска продукции согласно хозяйственным договорам и заявкам торговых организаций за счет рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
– Стимулирует ли реформа рост прибыли? – спросила Мари Верлан.
– Довольно серьезно. За счет отчислений от прибыли на всех предприятиях впервые создан фонд материального стимулирования, фонд социально-культурного и жилищного строительства.
– Чем больше прибыль, тем выше отчисления в эти фонды? – попросил уточнить Ричард Корстун.
– Не совсем так. Если прибыли нет, то и отчислять нечего. Если прибыли много, но завод не выполнил задание по каким-то видам продукции, то отчисления сокращаются. И кроме того, за счет собственной прибыли он должен возмещать штрафы и пени за нарушение договора…
Многие из вас спрашивают: не противоречит ли усиление материальных стимулов марксистскому учению? Ни Маркс, ни Ленин не пытались предсказать формы и методы материального стимулирования. Но они решительно выступали против уравниловки при социализме. Не в пример журналу «Тайм», который утверждает, что «согласно марксизму людей можно заставить работать как солдат или святых только ради благ государства». Это, конечно, чепуха!
Принцип распределения материальных благ по количеству и качеству труда знают в нашей стране со времен нэпа.
– А что такое нэп? – поинтересовался Терренс.
– Новая экономическая политика. Ее разработал Ленин, и с 1921 года под его руководством она начала утверждаться в стране взамен «военного коммунизма». Одно из принципиальных положений нэпа – внедрение хозрасчета, то есть прибыльной работы всех заводов и фабрик, создание личной материальной заинтересованности рабочих и крестьян в результатах своей работы. Социализм надо строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма… на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете… иначе вы не подведете десятки и десятки миллионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь», – эту мысль Ленин обнародовал в канун четвертой годовщины Октябрьской революции.
А вот как высказывается об этом «Тайм»: «Развитие экономических стимулов в СССР означает отказ от централизованного планирования и капитуляцию перед рыночной стихией». По логике авторов этого издания получается, что мы начали «отказываться» от централизованного планирования еще до его появления.
Когда мы говорим об управлении экономикой в масштабах всего государства на базе народной собственности, то следует иметь в виду, что речь идет о ломке общественных отношений, которые развивались веками и тысячелетиями в условиях частной собственности, что речь идет о формировании принципиально нового общественного строя. Об этом у Ленина есть довольно любопытное сравнение. Послушайте, как образно и как ярко он показал трудности строительства нового общества:
«Представим себе человека, совершающего восхождение на очень высокую, крутую и не исследованную еще гору. Допустим, что ему удалось, преодолевая неслыханные трудности и опасности, подняться гораздо выше, чем его предшественники, но что вершины все же он не достиг. Он оказался в положении, когда двигаться вперед по избранному направлению и пути оказалось уже не только трудно и опасно, но прямо невозможно. Ему пришлось повернуть назад, спускаться вниз, искать других путей, хотя бы более длинных, но все же обещающих возможность добраться до вершины… Этот опаснейший спуск, который нельзя даже назвать… „спуском на тормозах“, ибо тормоз предполагает хорошо рассчитанный, уже испробованный экипаж, заранее подготовленную дорогу, испытанные уже ранее механизмы. А тут ни экипажа, ни дороги, вообще ничего, ровно ничего испытанного ранее!
Читать дальше