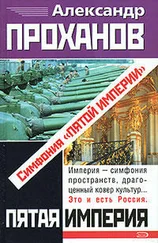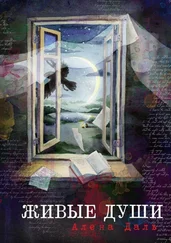— Поехали! — по-гагарински хмыкнул хирург, начиная очередной космический старт с целью погасить неродившееся светило.
Снова изогнутое, как сверкающий бумеранг, зеркало. Жестокие, раздирающие лоно расширители. Кюретки, отточенные, как стамески. Жуткая чмокающая трубка насоса, по которой в сияющий контейнер бежит малиновая жижа. Алый язык крови в металлическом желобе. Хирург старался, тяжело дышал. Неутомимо вгонял в нее железо. Вбивал костыль в разъятую матку. Чтобы там, на кровавом пустыре, больше никогда и ничего не рождалось-только груда ржавых гвоздей и обрывок колючей проволоки.
Сарафанов ужасался, с отвращением и ненавистью думал о еврейских адвокатах и ревнителях «европейских ценностей», что требуют запрета на смертную казнь, в то время как их соплеменники в белых халатах, от Смоленска до Владивостока, неутомимо, без суда и следствия, с яростью царя Ирода, избивают русских младенцев. Под трехцветным флагом и двуглавым орлом, под словеса о «великой России» работали гильотины, на которых изрезались миллионы не родившихся чад.
Женщину, белую, мертвенную, увозят на катафалке. Она красива и недвижна, как статуя. Ее поставят на могиле убитой дочки.
Третья женщина — вылитая кустодиевская красавица. Нежно — розовая, светящаяся, с необъятными бедрами, с млечными пышными грудями, на которых набухли лиловые, словно сочные сливы, соски. Лицо округлое, румяное, доброе, с синими теплыми глазами, с пунцовыми губами и милыми смешливыми ямочками. Волосы густые, соломенной копной, перевязаны шелковой ленточкой, спадают тяжелыми литыми прядями на широкое, чудесное плечо. Поставь рядом с ней блюдо с плодами земными, посади на перину с пестрыми подушками, принеси фарфоровый чайник с нарядным золотым петухом, окружи все это дорогой золоченой рамой — и выставляй как чудесный образец русского искусства незабвенных двадцатых годов.
Однако живот ее был непомерно велик. От крупного припухшего пупка до светлого, нежного лобка пролегла смуглая полоса материнского пигмента, какой проступает на теле роженицы на последних месяцах беременности. Само появление ее было необычно. Вместе с ней, слегка придерживая каталку, входил человек в белом халате, лысый, остроносый, с зоркими въедливыми глазами под двойными окулярами. Походил на остроклювую внимательную птицу с набухшем зобом. В руках его находился блестящий цилиндр. Посетитель и хирург обменялись доверительными взглядами. Произнесли несколько слов на непонятном наречии. Женщина на каталке вздохнула, волооко посмотрела на хирурга:
— Больно будет? — спросила она.
— Не почувствуешь, милая. Будешь как спящая царевна.
Она уже лежала на операционном столе. Голова хирурга оказалась между ее приподнятых, обутых в бахилы ступней. Резиновая перчатка осторожно ощупывала живот. Словно гладила невидимый, перезрелый плод: нежно по головке, за ушками, щекотала подбородок, делала смешную «козу». Губы хирурга сложились в трубочку, будто он ласково сюсюкал: «Ах ты мой масенький и холесенький!»
Зеркало, как турецкий ятаган, мощно погрузилось в лоно. Стальные расширители пружинно раздвинули мягкую беззащитную плоть. Хирург заглядывает в лоно, поворачивает зеркало. Остроносый в очках визитер нервничает, двигает зобом, словно пеликан.
В руках у хирурга — инструмент, напоминающий черпак, каким черпают мороженое, выкладывая в вазочки шарики пломбира. Ложка на длинной рукояти погружается в женскую утробу. Рука хирурга осторожна, нежна. Что-то мягко нащупывает, к чему-то прилаживается. Вдруг напрягается, с чем-то борется. Дергает, словно выдирает гвоздь. Движется назад, вытягивая ложку из женщины.
Кажется, что в ложке лежит огромная сочная клубничина, липкая, красная, мокрая. Когда хирург выносит ее под ослепительную люстру, видно, что это крохотный человек с выпуклой лобастой головкой, курносый, с закрытыми веками, темными дырочками ноздрей. Скрестил на груди ручки, поджал короткие ножки, весь прозрачный, дрожащий, трепещущий, словно глазированное изделие стеклодува, оторванное от длинной трубки, сквозь которую наполняло его творящее, созидающее дыхание.
Хирург приподнимает добычу, протягивает ее на показ остроносому визитеру, который отвинчивает крышку цилиндра, подставляет хирургу. Тот стряхивает туда эмбрион, как стряхивают в банку пойманного сачком тритона. Остроносый заглядывает внутрь, словно смотрит, как плещет в глубине сосуда живое существо. Завинчивает крышку и, что-то бормоча, уносит цилиндр из комнаты.
Читать дальше